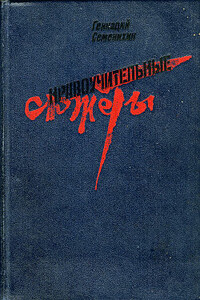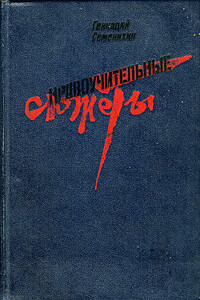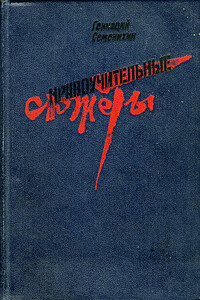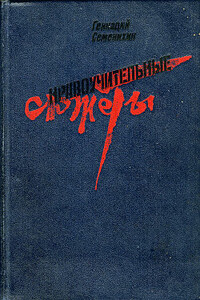Друг мой море | страница 5
— Вы, наверное, в Подмосковье жили когда-то?" — спросил я ради любопытства.
— Пока еще только собираюсь, — ответил Федор Павлович, и мне показалось, что голос его дрогнул, а в глазах отразилось выражение глубокой тоски.
Я не придал этому значения, и у меня мелькнула догадка: наверное, прощупывает меня бывалый северянин, как я тут прижился, не скучаю ли по теплым морям.
Раскурив погасшую трубку, Федор Павлович заговорил снова:
— Всему бывает конец, дорогой Антон Васильевич. Отплавался Бусыгин, понимаете?
Я пока ничего не понимал.
— Давай, Никулин, условимся. — Федор Павлович вдруг перешел на «ты», голос его стал глуше. — У меня нет никаких претензий, что ты займешь мое место. Несмотря на молодость, у тебя есть воля, разум. Военная косточка тоже имеется. Тридцати, кажется, еще нет?
— Двадцать восемь...
— Ну вот, а мне на пятый десяток давно гребет. Стар уже стал для моря. Пришло время, когда остается только сидеть у пруда и рыбу удить да грибы в лесу собирать... — Федор Павлович умолк.
Мне вдруг стало не по себе, чувство какой-то вины перед этим человеком сдавило сердце. Именно он первым поверил в тебя, привил тебе любовь к беспокойной профессии, помог увериться в своих силах и теперь должен еще уступить место на командирском мостике.
— Это как же, Федор Павлович? Неужели вас на пенсию?..
Вопрос мой прозвучал, наверное, нелепо, поэтому Федор Павлович ничего не ответил. Трубка уже торчала у него в зубах, а крупное лицо замкнулось в бесконечном равнодушии ко всему.
Мы молча спустились вниз по скрипучим ступенькам, пошли вдоль берега. Рядом, справа, лениво ворочалось море, густо-синее, с переливами, а дальше — темное, зыбучее, похожее на степь. Из-за вершин сопок выползло солнце, поредевшие облака накалились докрасна, небо окрасилось тысячью переходящих один в другой, непрерывно меняющихся оттенков ультрамарина и изумруда. Море тоже расцвело...
— Вот это мне уже нравится! Хоть какие-то краски обозначились, — как бы между прочим заметил Федор Павлович.
Но я и сам знал, что все-то ему здесь нравится, что и Север, и служба, и «вся эта муть серая» стали неотделимой частью его личности, его души. Он привык считать все это столь же реальным и подлинным, как самого себя. И он не мог расстаться с этой частью своей жизни так легко и просто, словно оторвать пожелтевший листок календаря. Говоря нелестное о Севере, тогда Федор Павлович и был неискренним.
Через два часа мы вышли в море. Попыхивая своей неизменной трубкой, Федор Павлович уже стоял на мостике, притулившись к тумбе компаса, внешне спокойный, одержимый командирскими заботами. Ни во время этого похода, ни потом он не выказал обнаженно никаких эмоций по поводу своего увольнения в запас. Только все не мог угомониться, сетовал на то, что самого главного так и не успел еще сделать.