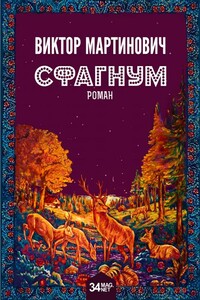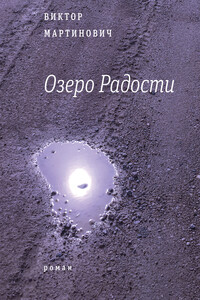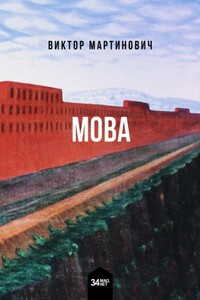Паранойя | страница 34
Время — лучший доктор не потому, что стирает блёром[6] людей, которых надо забыть. Ведь мы воскрешаем этих людей, и помещаем где-то у себя в груди, и подкармливаем воспоминаниями, и выращиваем из них карманных разукрашенных лилипутов, уже ничего общего не имеющих с жившими, и любим этих лилипутов, пока не встретится кто-то другой, живой. Нет, время — лучший доктор именно оттого, что приводит к нам на прием все новых и новых других, живых. И они открывают рты, показывают языки, говорят «Э-э-э-э!», и нам уже понятно, что без нас эту ангину не вылечить, и лилипуты лопаются, и вместо них появляется живое, теплое, капризное, несовершенное, но — куда лучше того, прежнего, и уж тем более лучше прирученных воспоминаний о нем.
За те осень недель время ни капельки не помогло мне. Никаких новых пациентов — хотя бы на уровне волнующего силуэта за рулем соседнего авто, грациозной шеи, обнаженного плеча. То есть силуэтов было сколько угодно, и мы с ними переглядывались, и мне даже улыбались — моя фрау выглядела что надо; но за секунду до того самого момента, когда душа как будто выходит из тебя и садится на пассажирское сиденье рядом с ней, а ты начинаешь творить глупости, например, гоняясь с обладательницей грациозной шеи и обнаженного плеча, игнорируя все цвета радуги, издаваемые светофором, — так вот, ровно за секунду до этого как будто кто-то клал ладошки мне на глаза, и — я проклинаю тебя, время, лучший доктор! — шептал на ухо: девушка, за рулем. Точно так же, как она, за рулем. Она тоже сейчас где-то, за рулем. Слушает свой рэп и паркуется на тротуарах. И, когда ладошка с глаз уходила, оказывалось, что та, с голым плечом, уже уехала, и я мчался дальше по рельсам моих воспоминаний. И так — восемь недель.
Что делал я это время? Пожалуй, приобрел отвратительную привычку разговаривать сам с собой. То есть — с ней. Я рассказывал ей обо всем, что видел.
И пенсионер в причудливых изумрудных очках в латунной оправе, и «линкольн», крашенный в розовый цвет, и плакаты, рекламирующие выставку Энди Уорхолла, — все это обращалось в слова, начинавшиеся с обращения к ней: «Сегодня видел такого дядьку, в зеленых очках, он был похож на гнома». Пожалуй, это было формой освоения ее в пространстве моей грудной клетки, при этом дверца в этой клетке была открыта, она могла уходить в любой момент, да и, если честно, никогда туда не приходила. Я разговаривал с ней, и это было лучше, чем заниматься самоудовлетворением, барахтаясь в озерце воспоминаний и переплывая из него в море фантазий.