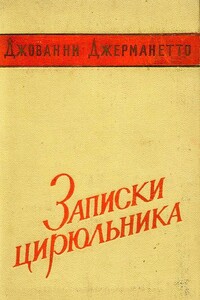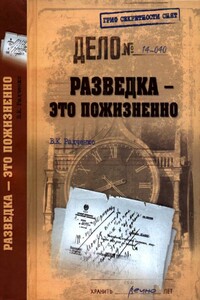Портрет матери | страница 21
Утром я не смогла поднять с подушки тяжелую голову. Надо вставать, я знаю, моя соседка стоит у кровати уже в платье и взмахивает одеялом.
Но от ее одеяла поднимается ветер и валит меня, глаза залепляет горячим, красным.
Потом слабо проступают голоса, какое-то движение. Меня поворачивают, трясут — все это далеко и, может, только кажется. Я лежу на большом поле. Живая, разогретая солнцем трава сверху, сбоку, снизу, траву клонит к земле, она с шумом расступается и смыкается. Идут волны, качают меня, я могу упасть с этой травы, с этой земли. Надо изо всех сил держаться, нельзя... А что нельзя? Слова не складываются, но запрет и без слов идет к пальцам, и они прижимаются к ладони. Даже когда волны накрывают с головой, я не разжимаю руку. В ней моя самая дорогая вещь, она одна осталась от дома, от мамы, от Минска.
Когда я открыла глаза, над головой обнаружился совсем не тот потолок, на котором я давно изучила все трещины. Этот — низкий, свежепобеленный. Назад видно дальше, чем вперед. Голова моя неудобно запрокинулась, подушки нет. А то, что я всегда под ней прятала? Мысли опомнились, вскочили и испуганно побежали в одну сторону. Где? Где, где?..
Руки мои давно разжались. В них пустота.
Незнакомая комната, незнакомое окно. Большая, взрослая кровать у противоположной стены. Кто-то лежит там, отвернувшись. Скрипнули доски, свесилась простыня. Серое лицо, белый платочек — женщина смотрит на меня без всякого удивления:
— Очнулась? В больнице, в больнице ты, где ж еще.
Она неправильно поняла сами собой хлынувшие из моих глаз слезы.
— Чего теперь плакать-то? Не померла — значит, будешь поправляться.
Но не о слабости своей и покинутости в этом незнакомом доме были мои слезы. Исчезла бесследно моя испанка. Она была со мной под бомбами и на всех пересадках с их санпропускниками. Даже когда нам велели снять с себя и сдать все домашние вещи с мамиными метками, а взамен выдали одинаковые платья из синего сатина, испанка осталась со мной. Пока шло мытье с керосином и щелоком, я ее спрятала во дворе под колючим кустом, а потом потихоньку перенесла, сложенную вчетверо, в спальню и засунула глубоко под подушку.
Она была наполовину красной, наполовину синей, с двухцветной кисточкой на верхнем; уголке. От нее пахло довоенным праздником: Первомаем.
Теперь ее больше нет.
К вечеру в голове знакомо загудело, глазам стал нестерпим пустой потолок, веки налились тяжестью.