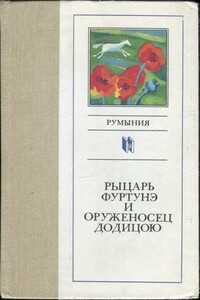Неразделимые | страница 56
«Рупанье», то есть ползанье на животе, было самым неприятным упражнением в «динсте» гитлерюгенда, после него мы всегда возвращались домой если не в лохмотьях, то во всяком случае в грязи с головы до пят.
Получив распоряжение моего юного дядюшки, шарфюрер в следующую среду начал занятия именно с этих неприятных упражнений. Все ребята, как положено, бросились на землю, им было не до шуток — они ползали, извивались, виляли задами, как крокодилы на суше, только я один не проявлял ни серьезности, ни усердия, ползал лениво и дурачился. Я надеялся на снисходительность маминого двоюродного братца, то есть на моего юного дядю.
Но шарфюрер остановил занятия и прицепился ко мне.
— Ты!
— Что?
— Сюда!
— Abteilung, halt![18] — скомандовал он и велел отделению присесть в тени. Там ребята приводили в порядок одежду, очищая с нее грязь. Потом их увел другой шарфюрер, как и было условлено.
А я стоял перед своим шарфюрером совсем не по правилам — расслабившись и усмехаясь, ведь мы с ним вместе ходили в воскресный детский садик, который вел наш капеллан, и этот тип первым принимался молиться — и в начале, и в конце.
Мы были с ним «на ты». И если бы югославское королевство просуществовало еще какое-нибудь десятилетие, мой шарфюрер стал бы священником. А сейчас он кричал на меня, называл саботажником и грозился выслать вместе с родителями в Сербию.
Я сказал ему:
— Не валяй дурака!
— Was, was[19], — заорал он, — ты еще будешь говорить мне «ты», ублюдок aus Jauerburg! Hinlegen! Auf, marsch, marsch![20]
Я медленно опустился и сел перед ним, подчиняясь команде.
— Aber nein, nein, — вопил он, — das ist ja kein hinlegen![21]
И сам растянулся на земле — упал, как подрубленное дерево, показывая, что должен делать я.
— So! Und jetzt aufstehen… Auf, marsch, marsch…[22]
Я все еще над ним посмеивался, обращал все в игру и, как козленок, побежал потихоньку, взбрыкивая ногами, словно мне мешала юбка.
Но тут откуда-то появился Эди Достал, тот самый, что угрожал маме и отцу в повестке, призывающей меня «на «динст». Он заорал на меня, обозвав собакой, которую нужно «хинрихтать»[23]. От этой ругани я закачался, как созревший плод, который от выпавшего на него снега стал слишком тяжелым. Я бросался на землю, ползал, вскакивал, бегал даже туда, куда фюреришка Достал и не приказывал.
Добрых полчаса продолжалась эта муштра, пока оба фюрера совершенно не охрипли от бешенства. Они покинули меня на полигоне в немыслимых лохмотьях, исцарапанного до крови, всхлипывающего и совершенно отчаявшегося.