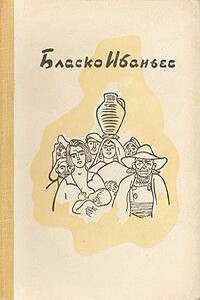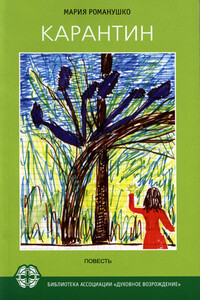Мир госпожи Малиновской | страница 81
Этот изменился до неузнаваемости. Сделался сух, нелюбезен, молчалив.
«Зависть его точит, — думал Малиновский. — Вроде бы и два факультета у него за плечами, а я и одного не закончил, в обществе он тоже куда выше меня, а тем временем я пошел вверх, а он и с места не сдвинулся».
А значит, настроение Боровича надлежало воспринимать снисходительно. Однако Малиновскому не раз хотелось поставить того на место, дать почувствовать свою власть, осадить старого приятеля. Если он и не делал этого, то по многим причинам. Прежде всего, было неразумно портить отношения с человеком, посещающим лучшие дома Варшавы, с которым просто быть на «ты» означало выделиться самому; во-вторых, его дружбу с Богной тоже приходилось принимать во внимание, а кроме того, Малиновский любил Боровича, любил искренне и — что там говорить — очень ему удивлялся. И если ранее он неохотно признавался в этом даже самому себе, то сейчас, когда он мог хвастаться перед Боровичем своим директорством, счет как бы выровнялся.
«Дуется на меня? Пусть дуется, — думал Малиновский. — Потом привыкнет и смирится».
И правда, казалось, что тот смиряется. Стефан, который сперва и вовсе у них не появлялся, принялся время от времени заглядывать на часок, на два, сперва только с Урусовым, а потом и один. Правда, был напряжен и молчалив, но и это наверняка пройдет.
— Как думаешь, — спросил однажды Малиновский Ягоду, — Борович на меня отчего-то обижен?
— Обижен?… Не знаю… Не думаю…
— Кривится вроде… У него нет настроения? А?…
Ягода пожал плечами.
— Неврастеник. Нормальный парень, но неврастеник. Все они такие.
— Какие «они»?
— Они, господа. Кровь жидковата.
— Ну, знаешь, Казик, Борович вовсе не слабак.
— Именно что слабак. Не физически. Нервы на пределе, а прежде всего — воля слаба. Вид, обреченный на вымирание.
Малиновский поджал губы.
— Ну, не все. Я тоже шляхтич, однако…
— Ты — кое-что другое. Я не говорил о шляхте и нешляхте, потому как это глупое разделение. Я говорил о таких, у которых многие поколения жили в роскоши и культуре. А ты, брат, ты…
— Ну?…
Ягода коротко рассмеялся, нахмурился и сказал:
— Я, например, как суровое грубое полотно. Прочное, как не знаю что, не порвусь, не испорчусь, моль меня не съест, потому как невкусно ей, но полотно это, стервь такая, и не стелется, непросто его выстирать, выбелить, отгладить… А Борович и ему подобные — это как бархат или какой другой шелк, ни нужды в них, ни надобности, так, для развлечения, для приятности, для украшения.