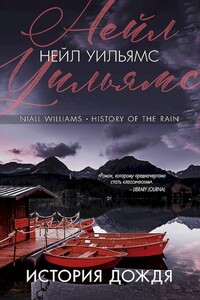Ковчег Лит. Том 1 | страница 116
После будильников имел место еще один ритуал:
Мишка умывался холодной водой, потом горячей, своеобразно интерпретируя метод кнута и пряника, чистил зубы четко по часовой стрелке и сплевывал (тоже четырежды) в тифозного оттенка раковину со вздутыми венами-сколами, оплетавшими ее вогнутое чрево. Тут же морщился, если думал о раковине вот так, метафорой. Метафоры он недолюбливал.
Метафоры нельзя было упорядочить.
А кашу в тарелке — можно, по донышку, и бабушкины иконы на полке — можно, по старшинству, и книжки — можно, на первой полке по именам, на второй — по фамилиям, третью Мишка вообще не трогал. Не давал книжкам зачетвериться. Как определять, что должно идти четверками, а что не должно, он объяснить не мог, но свято верил…
[увы, здесь автор допускает чудовищную оплошность: нельзя свято верить в то, что не требует веры для признания своей действительности; проще говоря, Мишка не верил — он был уверен в своей точке зрения так же, как был уверен в существовании своих ботинок, тумбочки с бельем или незачета по иностранному; факт, пускай и болезненный, был неопровержимо реален, и Мишка его знал]
…но был уверен, что именно так, а не иначе, и что малейшее отклонение, будто камушек, брошенный в стоячую воду, вызовет круги волнений до самого берега — до края Вселенной, считай.
И что ему, Мишке, этими волнениями ох как прилетит.
Щелк-щелк-щелк, свет на кухне мигнул и погас, снова всполошился, запрыгал по скатерти и выбросился в распахнутую форточку. Это Мишка шел завтракать и, входя, четырежды стучал по дверному косяку, чтобы обезопасить себя от последствий нестучания. Он смутно представлял, каких именно, но где-то под ложечкой ныло противное чувство надвигающейся, никак не приходящей боли, и Мишка исправно оббивал руку о косяки, лишь бы она не пришла. Поев, не возвращался сразу, а перекладывал с места на место все вымытые тарелки и только тогда, включив радио, шел, наконец, приводить в порядок свою планету с четырехкратным стуком на выходе. Приемник не работал уж сто лет в обед, но Мишку, а с ним и все мироздание, такие тонкости не заботили. Главное, чтобы лампочка горела, под белый шумок перемигиваясь с одноглазым чайником. Тогда будет правильно, тогда все будет так.
Потом Мишка шел в институт. А иногда и не в институт. Но куда бы ни понесли его ноги, он ни разу не позволял им наступить на полоску между тротуарной плиткой.
— Детская привычка, — оправдывался Мишка, выглядывая из-под гнета социальных условностей на своего психолога (не то чтобы у него был личный психолог или у него с психологом были какие-то особенные отношения, просто на эти два часа в неделю он был Мишкин, как потом становился Леночкин, Владиславов и, если дело шло к выходным, свой собственный). Его звали Евгением Палычем, был он худ, бородат и статен, как греческий святой с абонементом в барбер-шоп.