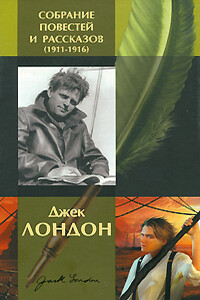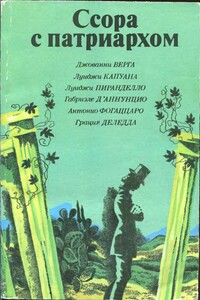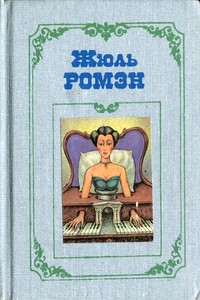По волнам жизни | страница 33
Селим пел ее каждый день, наигрывая на мандолине или без всякого аккомпанемента. От музыки просыпалась бабушка. Она приехала к дочери в Гирокастру, соскучившись по Исмаилу, и все время дремала в углу комнаты, упрятав увядшую шею с отвисавшей пустыми мешочками кожей в желтый мех телогрейки. Устав, должно быть, от жизни, отягощенная грузом восьми десятков лет, сгорбивших ее спину, бабушка вздыхала, встряхиваясь от дремы, которая скоро должна была перейти в беспробудный и вечный сон, и говорила с досадой:
— Чтоб ты провалился, негодник, с твоей нескладной, визгливой песней! От нее голова раскалывается!
Потом она опять засыпала под непрерывное бульканье воды, кипевшей на треножнике в металлическом кувшине.
Но разве в состоянии был кто-нибудь удержать Селима от игры на мандолине, особенно после того, как он обучился нотной грамоте! Он наигрывал одну за другой такие чудесные мелодии, что Исмаил не уставал его слушать. Новые неаполитанские песни: «Вернись в Сорренто», «Санта Лючия», «О мое солнце», «Валенсия», старательно переписанные кузеном с типографских нотных изданий, купленных и привезенных из Италии сыном одного торговца из Саранды, благозвучные и красивые, заставили наконец Селима разочароваться в песне о дорогой малышке, а потом и вовсе ее забыть… Играя на мандолине, Селим пел и так хорошо произносил итальянские слова, что Халиль-эфенди, немного говоривший по-итальянски еще с тех времен, когда в Гирокастре стояли итальянские оккупационные войска{52}, покачивал головой с довольным видом, поглаживал седую бородку и похваливал:
— Ну и молодец, ну и башковитый постреленок! Просто итальянец, да и только!
Халиль-эфенди, сухопарый мужчина, служивший кади во времена Оттоманской империи — и не каким-нибудь там уездным судьей, а судьей губернским, то есть не в маленьких городах, а в больших, подчинявшихся власти паши, — в молодости исколесил всю страну. Он побывал в Бергаме, Эскишехире, Манисе, Самсуне, Эрзеруме, Адане, Измире и даже на острове Митилена. А теперь, словно судно, годами бороздившее моря и за негодностью ставшее на прикол — не на ремонт, а чтобы там потихоньку ржаветь, — Халиль-эфенди, найдя себе в доме укромный угол, посиживал у очага и перебирал свои четки. Он пропускал прозрачные бусины одну за другой меж пальцев, и они соскальзывали на морщинистые ладони так же проворно и незаметно, как пронеслись для бывшего кади дни его службы…
Ах, какими прекрасными казались ему те ушедшие дни, время полного изобилия, когда чуть ли не за грош, честное слово, можно было скупить весь базар и заполнить дом любым товаром! И куда подевалось это изобилие, где былые великолепие и роскошь?