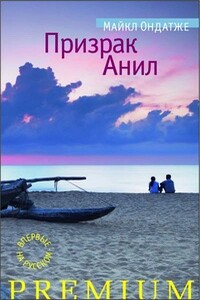Английский пациент | страница 138
Он протягивает руку ладонью вверх, чтобы Караваджо снова сделал инъекцию. Когда морфий уже растекается по венам, он слышит, как Караваджо бросает вторую иглу в эмалированную банку. Видит, как седой мужчина повернулся спиной, и понимает, что они оба – пленники морфия.
Бывают дни, когда после скучной писанины я прихожу домой, и единственное мое спасение – «Жимолость» в исполнении Джанго Рейнхардта и Стефани Граппелли в сопровождении «Горячего Клуба» Франции. Тридцать пятый. Тридцать шестой. Тридцать седьмой. Великие годы джаза. Годы, когда джазовые мелодии перенеслись из отеля «Кларидж» на Елисейских Полях в лондонские бары, Южную Францию, Марокко, а потом в Египет, где их с невеликим успехом пытался воспроизводить какой-то безымянный танцевальный оркестр в Каире.
Когда я снова ушел в пустыню, взял с собой воспоминания о танцах под пластинку «Сувениры» в барах, о женщинах, семенящих, как борзые, наклоняющихся, когда вы что-то шепчете им в плечо во время песни «Моя милая». Тридцать восьмой. Тридцать девятый. В отдельной кабинке раздавался шепот любви, а за углом уже ждала война.
В какую-то из последних ночей в Каире, через несколько месяцев после того, как мы с Кэтрин порвали отношения, Мэдокса уговорили устроить в баре прощальную пирушку по случаю отъезда. Клифтоны тоже были там. Один последний вечер. Один последний танец. Алмаши напился и пытался изобразить новое па, которое придумал сам и назвал «Объятие Босфора». Подняв Кэтрин и пересекая зал, он упал вместе с ней на куст аспидистры.
«Кто же ты на самом деле?» – думает Караваджо.
Алмаши был пьян, и его танец казался набором грубых движений. В те дни они не очень-то ладили. Он мотал партнершу из стороны в сторону, как тряпичную куклу, утоляя свое горе по поводу отъезда Мэдокса. За столом громко кричал. Когда Алмаши так вел себя, все обычно расходились, но то был прощальный вечер Мэдокса в Каире, и мы остались.
Плохой египетский скрипач пытался подражать Стефани Граппелли, а Алмаши походил на планету, сорвавшуюся с орбиты. «За нас – всевластных странников!» – он поднял бокал. Хотел танцевать со всеми, с мужчинами и женщинами. Хлопнул в ладоши и объявил:
– А сейчас – «Объятие Босфора» Ну, кто со мной будет танцевать? Ты, Борнхардт? Или ты, Хетертон?
Никто не хотел танцевать с ним.
Тогда Алмаши повернулся к молодой жене Джеффри Клифтона, которая бросала на него гневные взгляды, и кивком подозвал ее. Она вышла вперед, и он рывком приник к ее телу, кадык улегся на ее обнаженное левое плечо, возвышавшееся над блестками ее платья, словно отрог плато Джебель-Увейнат над прокаленными солнцем песками. Безумное танго продолжалось до тех пор, пока один из них не сбился с такта. Еще не остыв от гнева, она отказалась признать его победителем и дать возможность проводить ее к столу. Просто пристально посмотрела на него, когда он откинул голову назад, и это был не торжествующий, а атакующий взгляд. Тогда он что-то забормотал, наклоняя лицо, возможно, слова из песни «Жимолость».