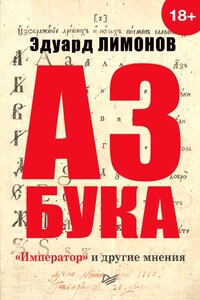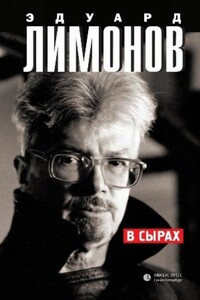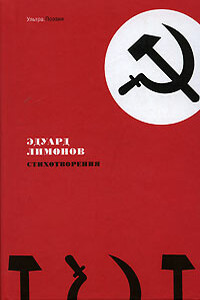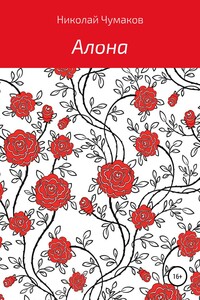Философия подвига | страница 57
«Каляев действительно думал так. Он не отрицал, конечно, значения мирной работы и с интересом следил за её развитием, но террор он ставил во главу угла революции. Он психически не мог, не ломая себя, заниматься пропагандой и агитацией, хотя любил и понимал рабочую массу. Он мечтал о терроре будущего, о его решающем влиянии на революцию.
— Знаешь, — говорил он мне в Харькове (Савинков и Каляев были на “ты”, оба учились в 1-й русской гимназии в Варшаве, и там с ними учился Йозеф Пилсудский, у обоих матери были польки, Каляев, к тому же, практикующий католик), я бы хотел дожить, чтобы видеть… Вот, смотри — Македония. Там террор массовый, там каждый революционер — террорист. А у нас? Пять, шесть человек, и обчёлся… Остальные в мирной работе. Но разве с. р. может работать мирно? Ведь с. р. без бомбы уже не с. р. И разве можно говорить о терроре, не участвуя в нём?.. О, я знаю: по всей России разгорится пожар. Будет и у нас своя Македония. Крестьянин возьмётся за бомбы. И тогда — революция…»
«Мы сидели на чьей-то заросшей мохом могиле. Он говорил своим звучным голосом с польским акцентом:
— Ну слава богу: вот и конец… Меня огорчает одно — почему не мне, а Егору первое место…» (Речь шла о покушении на Плеве, Егор Сазонов был первым метальщиком.)
«— Янек!
— Ну что?
— Иди.
Он поцеловал меня и торопливо, своей легкой и красивой походкой, стал догонять Сазонова».
«Мы сидели с ним в грязном трактире в Замоскворечье. Он похудел, сильно оброс бородой, и его лучистые глаза ввалились. Он был в синей поддёвке, с красным гарусным платком на шее. Он говорил:
— Я очень устал… устал нервами. Ты знаешь, — я думаю, — я не могу больше… Но какое счастье, если мы победим. Если Владимир будет убит в Петербурге, а здесь, в Москве, — Сергей… Я жду этого дня… Подумай: 15 июля, 9 января, затем два акта подряд. Это уже революция. Мне жаль, что я не увижу её…
(…)
Я не могу. Я буду спокоен только тогда, когда Сергей будет убит. Если бы с нами был Егор… Как ты думаешь, узнает Егор, узнает Гершуни? Узнают ли в Шлиссельбурге?.. Ведь ты знаешь, для меня нет прошлого — всё настоящее. Разве Алексей умер? Разве Егор в Шлиссельбурге? Они с нами живут. Разве ты не чувствуешь их?.. А если неудача? Знаешь что? По-моему, тогда по-японски…
— Что по-японски?
— Японцы на войне не сдавались…
— Ну?
— Они делали себе харакири».
Вот что Каляев писал 22 января перед покушением на великого князя Сергея:
«Вокруг меня, со мной и во мне сегодня ласковое сияющее солнце. Точно я оттаял от снега и льда, холодного уныния, унижения, тоски по несовершённом и горечи от совершающегося. Сегодня мне хочется только тихо сверкающего неба, немножко тепла и безотчётной хотя бы радости изголодавшейся душе. И я радуюсь, сам не зная чему, беспредметно и легко, хожу по улицам, смотрю на солнце, на людей и сам себе удивляюсь, как это я могу так легко переходить от впечатлений зимней тревоги к самым уверенным предвкушениям весны».