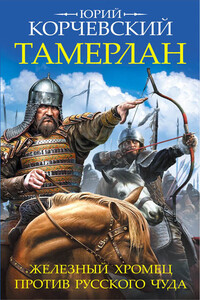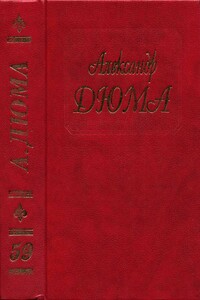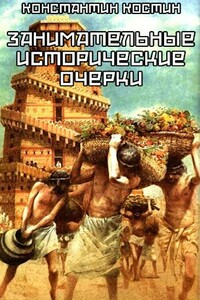Гибель Царьграда | страница 49
И было от чего! Уже как семь недель продолжается осада, и городские рвы уже доверху заполнены смердящими трупами его солдат, и день и ночь бьют по городу новейшие отлитые башковитым венгром пушки, а Константинополь всё держится. И, кажется, будет держаться вечно!
Вот и предложенные Мехмедом условия сдачи — сто тысяч византинов в год, либо свободный исход из города всего населения со всем движимым имуществом — в который раз отклонены. Видимо, и до города долетели слухи про папский флот, вот-вот войдущий в Мраморное море. Тревожные, нехорошие слухи. Они подобно ржавчине точат дух его войска. Да и поступающие из Эдирне сведения о непокорных, коварных венграх, грозящихся со дня на день перейти Дунай, тоже не добавляют спокойствия...
Замерли в шатком равновесии позолоченные чаши воображаемых весов: на одной — изящная арабская вязь по кругу, на другой — христианский выпуклый крест...
— Куда качнётся твоя чаша, Мехмед? — звучал, глумился внутри султана чей-то ехидный голосок. — Уж не переоценил ли ты свои силы, поставив на кон будущность своей державы?
И другой всё более крепнущий голос перебивал:
— Тебе нужен этот город, Мехмед. Иначе ты навсегда останешься тем испуганным мальчишкой, пытающимся поймать судьбу за скользкий хвост. Один раз ты уже сделал это, примчавшись первым к осиротевшему вдруг трону. Сделай это ещё раз. Докажи, что ты достоин править, как когда-то доказал это Искандер Великий. Иначе они сожрут тебя...
Всё это проносилось в голове молодого султана, в то время когда самый старый и опытный из визирей, белой тонкой колонной возвышающийся над сидящими, неспешно вил хитрый узор своей изысканной речи, умело вплетая в неё упоминая о последних неудачах, о тревожных слухах, об усталости и унынии в войске, прежде чем, под конец, произнести главное: осаду надлежит снять...
— Осаду надлежит снять!
И вот слова эти прозвучали, слетели с сухих старческих губ, и сразу же осмелели и одобрительно загудели, закачали головами седобородые:
— Да-да, снять... Надлежит непременно снять осаду.
— Войско устало!
— Потери великие!
И опять непонятно Мехмеду, что спрятано в этих аккуратно расчёсанных бородах и хитро сощуренных глазках.
Трусы! Подлые изменники и трусы!
Нет, всё-таки ошибся год назад приглашённый им в Эдирне италийский художник, когда на его вопрос, какого цвета ярость, ответил с любезной, но самоуверенной улыбкой: «Красная. Ярость представляется мне красного цвета, повелитель...» Тогда он позволил себе согласиться, а теперь вдруг понял, что неправ, ой, как неправ был сказавший это. Потому что ярость — она белая. Белого, застилающего взгляд и взрывающего мозг цвета...