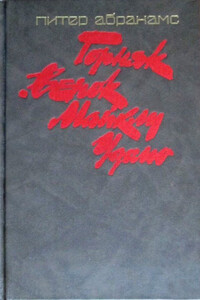Пшеничное зерно. Распятый дьявол | страница 32
«Друг» был единственным в Гитхиме заведением, где африканцам продавали спиртное.
Первым, кого увидел Каранджа еще с порога, был Мваура. «Не стоит плодить врагов», — обычно думал Каранджа, остывая после ссор.
— Забудем о том, что было, — сказал он теперь с напускной теплотой и непринужденностью. — Маленькая размолвка меж друзей, с кем не случается! Работа такая нервная, ответственная — этикетки для ученых книг. Войдет кто без стука — и готово, этикетка испорчена! А ведь библиотекарша — сущий изверг. Думаешь, зря от нее муж сбежал? Эй, официант, два стакана чая, живо! В Рунгее давно не был.
Джон Томпсон в тот день в Найроби так и не выбрался. Даже в обеденный перерыв он не выходил из своего кабинета — делал вид, что работает. Время от времени он вставал, долговязый, типичный англичанин, подходил к шкафу, вытаскивал одну из папок и возвращался к столу. Его худое обветренное лицо с выцветшими глазами при этом хранило отсутствующее выражение, мысли витали далеко, хотя тонкие пальцы привычно ощупывали каждый листок в папке, прежде чем поставить ее на место. Изредка он задумчиво водил ладонью по щекам, собирая кожу в складки у рта; блуждал взглядом по чистой промокашке, авторучке, вазочке для карандашей, чернильному прибору — все на своих местах, потом переводил глаза на потолок, беленные известкой стены, словно доискиваясь до сокровенной причинной связи окружающих его вещей. В голове был полный сумбур.
Откинувшись на спинку кресла, он развернул свежий номер «Ист африкэн стандард», старейшей ежедневной газеты в Кении. Пробежав сообщения о назначенных на четверг торжествах, он вздрогнул от смутного ощущения измены, предательства. Он не мог бы сказать, что именно вызывало это чувство. Пожалуй, та готовность смириться с происходящим, которая сквозила в тоне статей, появлявшихся в газете в последнее время. Вот недавно на первой полосе поместили портрет новоиспеченного премьер-министра… Увидев его, Томпсон зажмурился и поскорее перевернул страницу. Потом он устыдился своего поступка, но все же не мог заставить себя вновь взглянуть на фотографию. Томпсон уже знал, что на празднике Независимости королеву будет представлять герцог Эдинбургский. Любое напоминание об этом отзывалось в душе тоскливой болью. Герцог вынужден будет глядеть на то, как опустился британский флаг, чтобы никогда уже не реять впредь над этим берегом Альбиона. Еще горше делалось Томпсону, когда он вспоминал, как королева — в то время принцесса — приезжала в Кению в пятьдесят втором году. Томпсон, он был тогда районным комиссаром, удостоился чести пожать ей руку. Сердце рвалось из груди. Он готов был для нее на все, с радостью встретил бы смерть, лишь бы доказать свою преданность всему тому, что воплощала принцесса, ее улыбка. Томпсон отбросил газету и встал. В повлажневших глазах горел отблеск пережитого восторга. Он подошел к окну, бормоча про себя: «Ах, глупец, смешной, наивный глупец!»