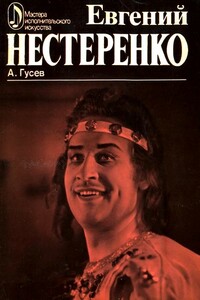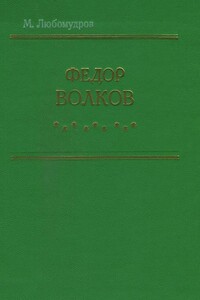Театральные портреты | страница 80
Я видел Ермолову вне сцены только единственный раз, и то недолго, не более получаса.
Это было у Вл. И. Немировича-Данченко в Москве, в 1906 или 1907 году. И в жизни она на меня произвела такое впечатление, как на сцене. Благородство, спокойное и мягкое достоинство, скромность, лучистая ясность взора, отсутствие всякой аффектации — все то, что так характерно для Ермоловой, как для актрисы, было у нее и в гостиной. И одета она была как-то по-своему, по-ермоловски, и я хорошо запомнил ее вишневого цвета строгое полукоролевское платье, придававшее всей ее фигуре так много благородства. Ни малейшего намека на позу. И когда она ушла, — а ушла она скоро, — в комнате как будто остался ее аспект и незримо присутствовал при дальнейшем разговоре.
{129} Хочется не только запечатлеть образ Ермоловой для потомства, но еще больше утвердить его в умах и сердцах современников.
Ермолова — одно из прекраснейших созданий нашей «старой» культуры, переживающей, как говорят, кризис и предназначенной на слом. Я не знаю, что даст будущее и даст ли вообще что-нибудь, и способна ли механизация жизни дать яркость и своеобразность индивидуальному герою или же самое творчество перейдет в коллектив, как из темного коллектива вышли начальные формы искусства. Но тем более бережно должно хранить эти последние, быть может, цветы — осенние, грустные розы — нашего увядающего существования.
{130} К. А. Варламов[99]
Когда Варламов еще не был так толст, каким его привыкла видеть публика, со слоновыми ногами и большим животом, однако и при молодости лет подавал на то надежды, — он играл, и довольно часто, в водевиле (кажется, крыловская переделка) «Чудовище», где главным действующим лицом является великовозрастный гимназист, он же и «чудовище». Чудовище ведет себя самым оригинальным и сверхнеожиданным образом; оно — чудовище-гимназист — так забавно, так своеобразно, что сердиться на него решительно невозможно. «Послушайте, чудовище, — говорит ему дама, приятная {131} во всех отношениях, — это даже слишком… Что вы себе позволяете?» Но… чудовище! Какие законы писаны для чудовища? Чудовищу можно! Чудовищу все разрешается!..
Варламов так и остался великолепным «чудовищем» нашей сцены, чудовищем таланта, оригинальности и своеобразия. Чудовище, талантище, актерище, животище… Подберите на «ще» и далее сколько хотите эпитетов.
Со смертью Варламова для огромной части театральной публики Александринский театр осиротел. «Масса», как принято выражаться, ведь, в сущности, очень далека от различных теорий театра, по которым что-то «выявляется» и «осознается», а ищет, любит только актера и восторгается в театре только актером. Говорят еще, что масса, дескать, любит «обстановку». Может быть, и даже наверное. Но вот я не запомню, чтобы через год после какой-нибудь «обстановки» и «постановки» театральная публика об ней говорила, а об актере говорят целые десятилетия, как и сейчас, из уст в уста передаются рассказы о Щепкине, Мочалове, Садовском и пр. Таким же изустным преданием останется и Варламов, — неповторимое «чудовище» русского театра. В лице Варламова мы подходим к одной из интереснейших проблем театра — к вопросу об отношении актера, как субъекта творчества, и роли, как объекта, — к так называемому вопросу о «перевоплощении». Об этом нагорожено очень много, и, как всегда, наиболее чуждые театру люди, хотя и очень даровитые, всего меньше в нем разбираются. Достаточно, например, припомнить остроумную, но совершенно фальшивую статью В. В. Розанова[100] об актере, как о некоем «сатанинском» начале, ибо актер не только многолик, но и якобы безлик, и будто бы в этой его основной безликости — в том, что он