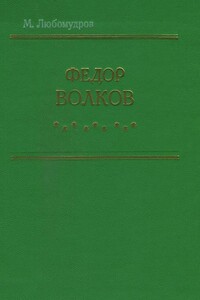Театральные портреты | страница 79
Когда она дебютировала в 1870 году в роли Эмилии Галотти[97], какой-то чуткий и беспристрастный рецензент — что, вообще, большая редкость — писал о ней в «Русской летописи»: «Но, говоря о первых успехах нашей дебютантки, невольно страшишься за ее будущее. Что из нее выйдет потом? Зависть, невидимые преследования, с одной стороны, восхваления, с другой, а поверх всего {128} растлевающая юные таланты среда, ужасная система, которая сильнее каждого человека в отдельности и то и дело губит у нас дарование в самом зародыше. Мы ничего не желали бы так сильно, как если бы и через десять лет вы сыграли с такой же правдой сцену Эм. Галотти с ее матерью, как исполняли ее в этот вечер; чтобы тот же искренний жар горел в ваших глазах и вызывал в необработанном еще голосе те подчас говорящие сердцу тоны, какие мы слышали в этот памятный для нас вечер».
Ермолова оправдала надежды рецензента. Она стала гениальной артисткой, потому что ни разу не солгала на сцене. Если «гений — это труд», то сценический гений — это неизменная, себе верная, искренность чувства и правда переживания. «Никогда сюртук не осквернял моего тела на сцене», — заметил как-то Муне-Сюлли[98]. А Ермолова может сказать: «Никогда ни одна лживая уловка не оскверняла образа, который я выносила на сцену!»