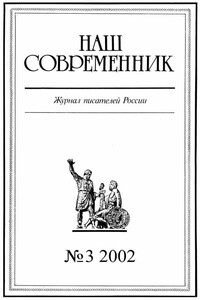Непрерывность жизни духа | страница 15
Как вдруг в храм вваливается группа явно подвыпивших молодых людей с гитарой. На них форменная одежда — это “ремеслуха”, учащиеся районного ПТУ, отмечающие окончание производственной практики на местной МТС. Или, как говорил потом Валерий Николаевич, “нагрянул гегемон”, то есть пролетариат — передовой отряд трудящихся, что прописано в любом учебнике марксистско-ленинской философии. Как нам впоследствии рассказали, чуть ли не при их участии некоторое время назад этот храм доводился до нынешнего состояния, так сказать, “заканчивался как отсталое явление”.
Передовой отряд ведет себя вполне соответствующим образом, с революционной решимостью. Увидев меня на верхотуре, с воплем: “Да они нашу церковь грабят!” — будущие механизаторы начинают раскачивать иконостас, без всякого сомнения, желая, чтобы я, как гнилой плод, рухнул к их ногам на каменный пол. Ситуация становится критической: я, вцепившись мертвой хваткой в деревянные перекладины, могу только творить Иисусову молитву, но сверху вижу, как побледневшие Марина Викторовна и Валерий Николаевич пытаются помешать ребятам, хватают за руки, умоляют остановиться.
Столь же внезапно, как началось, все заканчивается: молодежь с пением под гитару оставляет поле битвы. Как я спустился, — не помню, как и то, что мы друг другу говорили, когда, наконец, встретились на твердой земле. Помню только, что уже по выходе из храма Марина Викторовна безропотно выдала нам по порции реставрационного спирта из неприкосновенного запаса, да и сама, кажется, выпила с нами: “За спасение!”.
Это потом, читая книжку очерков Валерия Николаевича “Дорогами старых мастеров” (М., 1982), повествующую об экспедициях Рублевского музея, в которых он на протяжении многих лет участвовал, я остановился на следующих словах. “Однажды, — рассказывает Валерий Николаевич, — работая с древними рукописями, в старинном фолианте наткнулся я на небольшое литературное произведение древнего русского книжника, в котором говорилось о свойствах разных народов и вер. И немцы, и англичане, и поляки, и “фря-зи” — итальянцы — упомянуты были в этом сочинении. А заключалось оно суждением о русском народе. Вера-де наша самая правильная, издревле не искаженная, а “русский народ — переменчив”.
Что и говорить, согласился и я с древним книжником, вспоминая эпизод с “восхождением” на иконостас. Куда как переменчив наш народ-Богоносец! Деды истово молились, благоговейно ходили с хоругвями во время крестных ходов. Отцы и внуки громили храмы, поносили священников и монахов. И опять в “коловращении” истории все на глазах меняется. Уже дети этих “ремесленников”-богоборцев посещают церковь, может быть, даже ту самую, где все это с нами приключилось, только, понятно, после ее восстановления и обновления. Зажигают свечи, единодушно отвечают священнику: “Воистину воскресе!”.