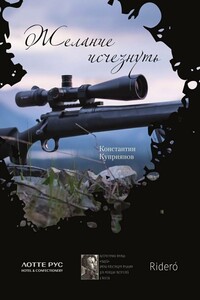Меланхолия сопротивления | страница 37
хотел бы содействовать безусловному успеху дознания, сделав следующее, решающее, как ему кажется, заявление. Он хочет сказать о тех двадцати или тридцати отъявленных негодяях, одного из которых потрясенные свидетели имели возможность только что лицезреть; речь действительно идет о каких-нибудь двух или трех десятках подлых мерзавцев, которые с самого начала их гастролей по Южному Алфельду на всех выступлениях, во всех деревнях и селах, затесавшись в ряды прочей публики, угрожали сорвать представление. Так вот, пользуясь воспаленным воображением, внушаемостью и доверчивостью наших, обычно уравновешенных, но нынешней ночью вышедших из себя поклонников, следующих за цирком, эти люди распространяли, в том числе и сегодня, слух, будто «мой замечательный коллега не просто играет герцога, но и является таковым в реальности» и что он будто бы некий «повелитель ада», с сокрушенной миной улыбнулся Директор, странствующий по свету карающий властелин, призывающий своих подданных поучаствовать в исполнении своего «приговора», – это он-то, возмущенно воздел обе руки Директор, человек, которому небо ниспослало блистательный артистический дар, но при этом, медленно опустил он руки, сменив возмущение на сочувствие, и наказало «чрезвычайно серьезным физическим недостатком», в результате чего «для поддержания своей жизнедеятельности этот беззащитный наш сотоварищ постоянно нуждается в посторонней помощи!» Уже и из этого видно, посмотрел он строго на лейтенанта, что мы имеем дело с циничной и подлой бандой, для которой, как только что можно было услышать, действительно «нет ничего святого», и поскольку он, Директор, с самого начала гастролей, по счастью, об этом знал, то везде, где они останавливались, обращался за помощью к местным властям для обеспечения безопасности их представлений. В этой помощи ему нигде не отказывали, и, естественно, точно так же он поступил и здесь: по прибытии в город первым делом обратился в полицию, однако когда некий полицейский чин вручил ему документ, официально гарантирующий безопасность артистов – и, можно сказать, самого искусства, – он даже не догадывался, что имел дело с должностным лицом, не способным справляться со своими обязанностями. Он шокирован и крайне разочарован, сказал Директор, ведь речь шла о каких-то двадцати или тридцати злодеях, и вот он стоит сейчас здесь, его труппа распалась, коллеги в ужасе «бросились врассыпную», и он не знает, кто возместит ему понесенный материальный и, главным образом, моральный ущерб. Разумеется, он понимает, воскликнул Директор, что еще не настало время для удовлетворения личных претензий, но как бы там ни было, пока это не случится – а в том, что это случится достаточно быстро, у него нет сомнений, – он с позволения господ офицеров останется в городе и хотел бы просить их беспощадным образом продолжать выяснение истины, он же, со своей стороны, на прощанье хотел бы передать им тот самый, выданный полицмейстером, документ – мало ли, пригодится – и выразить надежду, что ему удалось внести свою скромную лепту в работу глубокоуважаемой следственной комиссии. Тут Директор, и в самом деле закончив речь, извлек из кармана своей необъятной шубы листок бумаги и, в обмен на свой «цирковой патент», передал его шатающемуся от полного изнеможения лейтенанту, после чего, далеко отведя от себя вновь погасший огрызок сигары, кивнул сперва в сторону противоположной половины конференц-зала, затем в сторону свидетелей и – уже из дверей бросив за спину: «Я квартирую в отеле „Комло“» – покинул немое собрание допрашиваемых и допрашивающих, которое больше смахивало сейчас на разбитое воинство покоренного государства. Ибо и в самом деле все они, от Харрера с госпожой Эстер до Волента и компании, производили впечатление людей, не убежденных, а просто повергнутых в шок неостановимым потоком директорского словоизвержения, совершенно раздавленных обрушившейся на них мешаниной из деклараций, доводов, фактов и многочисленных версий случившегося; теперь, погребенные под этой лавиной, присутствующие словно ждали, чтобы кто-то освободил их, так что вовсе не удивительно, что потребовалось некоторое время, чтобы они пришли в себя, очухались от медленно проходящего остолбенения. Лейтенант в бешеной ярости ринулся было за удалившимся с гордым видом оратором, но, взглянув на сжимаемую в руке бумагу, остановился на полпути. Госпожа Эстер и Харрер уставились друг на друга, а господин Волент, господин Мадаи и господин Надабан, разведя руками, застыли в немом изумлении, словно изображающая протест против услышанного скульптурная композиция, и вдруг, будто их прорвало, одновременно затараторили. Что касается Эстера, то он остался в стороне от общего – во всяком случае, для свидетелей – возмущения; он был далек от того, чтобы кого-то судить, он собирал и взвешивал информацию, и для него были равным образом важны и только что прозвучавшая речь, и реакция, которую она вызвала у присутствующих, но в еще большей степени – ибо просьбу его требовалось изложить, приспосабливаясь к настроению следователей – важно было понять, как относится к исповеди Директора и к вызванному ею негодованию несомненный, хотя и невидимый, будущий высший арбитр в деле Валушки. Правда, это, судя по всему, могло оказаться непростой задачей, потому что, когда лейтенант в растерянности вновь повернулся к начальнику и, щелкнув каблуками, спросил: «Прикажете вернуть его, господин подполковник?» – тот, ограничившись вместо ответа лишь вялым жестом, свидетельствовавшим то ли о полном равнодушии, то ли о явной досаде, долго молчал, а затем, уже с нескрываемой горечью в голосе, вопросил: «Скажите, дружище Геза, вы уже рассмотрели эту картину?» – на что тот, скрыв замешательство за армейской прямолинейностью, ответил: «Никак нет, господин подполковник!» – «Ну тогда посмотрите, – с грустью в голосе продолжил невидимый собеседник, – на боевой порядок в правом углу. Артиллерия, конница, инфантерия. Это вам, – он сорвался на крик, – не за хулиганами обнаглевшими бегать! Тут боевое искусство!» – «Так точно, господин подполковник!» – «А этот гусарский клин в центре? или вот, видите? драгунский полк, разделившись, совершает охватывающий маневр! Посмотрите на генерала вот здесь, на холме, и на его солдат в разгар битвы, и тогда вы поймете, чем отличается эта возня в курятнике от настоящей войны!» – «Так точно, господин подполковник. Я сейчас же закончу допросы». – «Не примите это на свой счет, лейтенант! Но я больше не в состоянии слушать идиотское блеяние, всхлипы и верещание в этой вонючей помойке! Много их еще там?» – «Я постараюсь управиться максимально быстро, господин подполковник!» – «Ну, постарайтесь, дружище Геза, – меланхолично махнул командир своему подчиненному, – постарайтесь, прошу вас!» От всего подполковника по-прежнему была видна только одна рука, зато Эстер теперь имел полное представление о том, чем он до этого занимался: находясь в полутьме, по-видимому, действующей на него успокаивающе, подполковник, как командир вынужденный присутствовать при допросах, утешал себя созерцанием исторической битвы на старом холсте; он теряет терпение, понял Эстер, чувствует, как несправедлива к нему судьба, забросившая его сюда, поэтому лучше всего, решил он, сформулировать просьбу коротко, ограничившись двумя-тремя четкими фразами, и все будет в порядке. В том, что из этого ничего не вышло, что никакие его ухищрения не помогли ему снискать расположение власти, не было его вины; все замыслы Эстера были разрушены тремя господами, когда, выйдя по приглашению лейтенанта на середину, они завели свою шарманку. При первых же их словах (что они «хотели бы все расставить по своим местам») лицо офицера перекосилось и он бросил тревожный взгляд в сторону председательского кресла; а когда господа заявили, что они решительно против того, чтобы «город, повергнутый в траур, оскорбляли такой беспардонной ложью», и к тому же не кто-нибудь, а именно те, кто во всем виноваты, рот лейтенанта конвульсивно задергался. Нет ни малейших сомнений, говорили они, что цирк и сопровождающий его сброд – одно нераздельное целое, и никак невозможно отмыть («Да в мире воды не хватит!» – вскричал господин Мадаи) эту темную компанию, свалив все на хулиганов, так что нечего дурить людям голову невиновностью этой подлой «китовой банды», потому что их, убеленных сединами, обмануть не получится, они много чего повидали на своем веку и вообще не из того теста сделаны, чтобы дать себя – так вот, запросто – обвести вокруг пальца. Это все ложь, заявляли они, игнорируя лейтенанта, который, почуяв недоброе, призывал их ограничиться фактами, неправда, перебивая друг друга, кричали они, что такую ужасную катастрофу могли учинить несколько хулиганов, ибо ясно как божий день, кто – ссылаясь на Страшный суд – затеял весь этот адский погром. Да разве это не величайшая глупость представлять, будто в таких событиях могло обойтись без участия «черной магии», таинственно продолжали они, не замечая, что при слове «магия» хозяин председательского кресла вскочил и, выйдя из тени, угрожающе двинулся к ним, ведь в конце концов, горячились они, всем известно, что на беззащитный город напала не «жалкая кучка из двадцати-тридцати бандитов», а воинство сатаны, о приближении которого в течение ряда месяцев свидетельствовали многочисленные знамения. Они успели еще рассказать о раскачиваемых незримыми силами водонапорных башнях и вывороченных с корнями деревьях на территории их города, однако на то, чтобы объявить о своей готовности вступить в битву с «сатанинскими кознями» и предложить «свои слабые руки» в помощь регулярным силам, времени уже не хватило, ибо командир упомянутых сил к тому времени был уже рядом с ними и громко, так что расслышал даже тугой на ухо господин Мадаи, завопил: «Ну-ка цыц, гребаные бараны! Вы что думаете, – грозно навис он над отпрянувшим в ужасе Надабаном, – я буду выслушивать этот ваш бред?! Да кто вы такие, чтобы играть у меня на нервах?! Вы с утра парите мне мозги своей идиотской дичью и думаете, что я это так оставлю?! Да я вон позавчера в Телекгерендаше в минуту всех таких маразматиков засадил в дурдом! Вы думаете, я для вас сделаю исключение?! Можете не надеяться, я и в вашем вшивом борделе смогу навести порядок, разнесу всю вашу помойку, где каждый дебил думает, будто он – пуп земли, Господь Бог, шишка на ровном месте! Страшный суд? Катастрофа? Хера с два! Вы и есть катастрофа и Страшный суд, мудаки – вот вы кто, потому что витаете в облаках, чтоб вас всех разорвало, лунатиков! А ну-ка, поспорим, – тряхнул он за плечи насмерть перепуганного Надабана, – что вы даже не представляете, о чем я сейчас говорю!!! Так как сами вы не
Книги, похожие на Меланхолия сопротивления