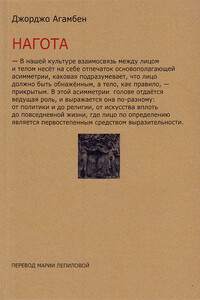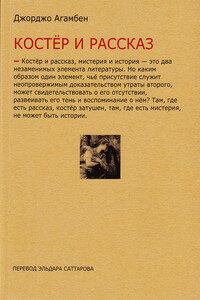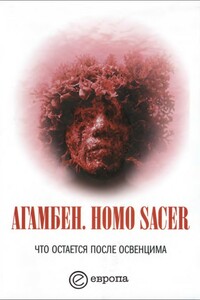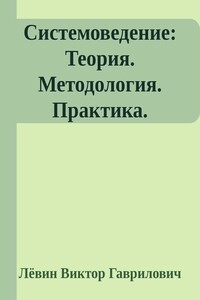Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь | страница 113
Здесь предельно ясно выражена мысль, что нацизм укоренен в том самом опыте фактичности, на который как раз и опирается хайдеггеровская мысль и который философ обобщил формулой в своей «Ректорской речи»: «хотеть или не хотеть собственное бытие–здесь». Лишь эта изначальная близость может помочь понять, почему Хайдеггер смог написать в курсе «Введения в метафизику» (1935) следующие откровенные слова: «То, что сегодня повсюду и в полной мере предлагается как философия национал–социализма, но ничего общего не имеет с внутренней истиной и величием этого движения (а именно с сопряжением планетарно предназначенной техники и человека Нового времени), — все это ловит рыбку в мутных водах “ценностей” и “цельностей”»[247].
Заблуждение национал–социализма, изменившее его «внутренней истине», состояло бы тогда, согласно Хайдеггеру, в преобразовании опыта фактической жизни в биологическую «ценность» (отсюда и то презрение, с которым Хайдеггер не раз писал о биологизме Розенберга). Если философский гений Хайдеггера проявился прежде всего в разработке концептуальных категорий, описывающих затруднение, на которое наталкивается фактичность на пути к факту, то нацизм пришел в конце концов к тому, что связал фактическую жизнь формальным расистским определением и таким образом утратил связь со своим подлинным движущим мотивом.
Однако, учитывая все вышесказанное, как именно следует понимать политическое значение опыта фактичности, если абстрагироваться от этих различий? В обоих случаях жизнь, чтобы стать политикой, не нуждается в принятии внешних по отношению к ней «ценностей»: политикой она является непосредственно уже в самой своей фактичности. Человек не является существом, которое, чтобы стать самим собой, должно уничтожить или превзойти себя, это не дуализм духа и тела, природы и политики, жизни и логоса — отныне он вне этой власти. Человек больше не «антропоморфное» животное, преодолевающее себя на пути к человеку, его фактическое бытие уже содержит движение, которое, если уловить его, созидает его как