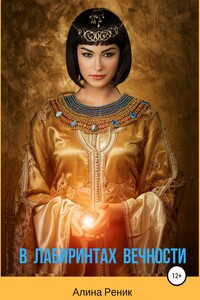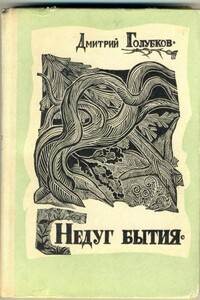Крик вещей птицы | страница 76
— Не надобно так скромничать, Осип Петрович, — сказал Радищев. — Вами многое сделано в журналах — вы отважно сражались с Гельвецием и Гольбахом. А в академии исправляли слог Ломоносова. Не каждому дается подобная честь.
— Вот и ты, батенька, посмеиваешься. Знаю, знаю, как надо мной подтрунивают. Да мог ли я покуситься на слог Ломоносова? Просмотри все шесть томов, какие мы издали, и ты не найдешь никакой переделки. Я исправлял лишь кое-какие ошибки против грамматики, а тут уж пошли разные толки: вот, дескать, какой-то бездарный литератор решил выправить Ломоносова и тем прославиться. Другие-то говорят — куда ни шло, но от тебя слышать очень обидно. Не обижай меня, Александр. — Козодавлев как-то подавился словом и повернулся к окну, остановившись.
— Простите, Осип Петрович, — сказал Радищев. Он встал и подвел Козодавлева к зеленому канапе. — Садитесь, успокойтесь. Я совсем не хотел вас обидеть.
— Да, не надобно огорчать друг друга, — сказал Козодавлев. — Я все же не из противного стана. Зачем чуждаться? Подари-ка, подари книгу-то. Мне и Гавриле Романовичу. Мы постоим за нее, коль скоро станут нападать.
Радищев не верил этим вкрадчивым словам, но чувствовал, что уже поддается им, и, как всегда в подобных случаях, мысленно клял свою слабость. Многие недостатки он давно победил в себе, что потребовало в свое время больших усилий. Так, ему, тихому, хилому отроку, пажу, трудно давалось искусство владеть шпагой, однако он упорно и долго упражнялся и в конце концов стал блестящим фехтовальщиком, заметно укрепив свое здоровье. Склонный к поэтическому мышлению, он тяготился в Пажеском корпусе алгеброй и механикой, считая их «холодными» науками, совсем для него лишними, но в университете он сразу понял, что ему необходимы обширные знания, и решил ходить на лекции, далекие от юриспруденции, и за пять лет хорошо изучил кроме метафизики и психологии, тоже не предусмотренных для юристов, химию и медицину. Вернувшись в Петербург совершеннолетним образованным дворянином, он вынужден был появляться в некоторых хотя бы не очень аристократических гостиных и, застенчивый, постоянно погруженный в свои мысли, досадно робел и терялся в обществе дам, а когда граф Брюс и графиня ввели его в высший свет, он все же преодолел неловкость, вышколил себя, научился изысканно говорить и легко танцевать. А вот быть железно твердым, когда надобно в чем-нибудь отказать друзьям и товарищам, бывшим или настоящим, верным или сомнительным, он не умел ни теперь, ни прежде. Этой слабостью еще в Лейпциге пользовались однокашники, правда, только двое — проказник младший Ушаков и бесшабашный от нужды Насакин; они подкрадывались к нему тайком от других, просили взаймы присланные ему из России деньги, и он, зная, что не вернут, все-таки отдавал, а то и проигрывал им, втянутый в картежную ловушку. Веселые озорники, выудив так или этак весь капиталец у товарища, вели его в трактир «Голубой ангел», прихватывали девиц и устраивали довольно дорогую пирушку, после чего их друг, шутя обобранный, долгие месяцы сидел вечерами в холодной и мрачной комнатушке, сидел безвыходно, наедине с добродушным Кутузовым, который невозмутимо переносил холод и недоедание и, кутаясь в стеганое, кофейного цвета одеяло, читал «Книгу уставов» (где он достал эту масонскую библию?) или мечтал вслух о тех временах, когда люди во всем согласятся (общественное соглашение было тогда притчей во языцех) и станут жить без нужды и роскоши, без драк и притеснений.