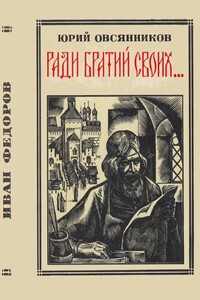Крик вещей птицы | страница 38
Козодавлев приказал служителю принести еще одну чарку и едва успел ее наполнить, как поэт протянул к ней руку.
— С вашего позволения, господа. Благополучия вам и здравия… Ба, хороша водочка! Анисовая? Чувствую, чувствую. Покамест еще могу разобраться, чем услаждаюсь. После и различать не стану. Да, господа, Костров достоин осмеяния. И вы в душе-то смеетесь, только не выказываете. Бог с вами. Я не сержусь. Ко всему привычен. Даже девки надо мной глумятся. Гощу я теперь, позвольте доложить, у Ивана Ивановича Шувалова, у щедрого нашего мецената. Боле все в девичьей нахожусь, когда трезв. Так они, язви их, девки-то, рукоделью меня учат. Вязать, сшивать разные цветные лоскутья. А то наденут мне на руки моток пряжи, сматывают и заставляют «складные речи» говорить, стихи то есть. И хохочут, плутовки. Им наплевать, что Костров подарил русскому читателю Гомера.
— Ну, хоть не всего Гомера, — заметил Козодавлев.
— Переведу и всего. Переведу, если вот это зелье вконец не загубит. Сдавать стал. Сил недостает. Вы беседуйте, беседуйте. Костров вам не помеха. Костров никому не мешает. При нем женщины сменяют одеяния. Беседуйте, а я малость отдохну.
Он облокотился на стол и уткнулся лбом в ладони.
— Да, долго не протянет, — сказал Козодавлев, как будто того, о ком он говорил, вовсе тут не было. — А ведь ему едва ли за сорок перевалило. Скорехонько же мы изнашиваемся. Трудный век. Бурный, суетный.
— И безбожный, — вставил Челищев.
— Да, греховный, развратный. Прежние нравы рухнули, новые еще не устоялись. Петр Великий растормошил Россию, поднял с постели, однако не приодел ее, не причесал, и она так и осталась растрепанной. Он вылепил тело империи, а душу надлежит влагать в нее нам. Всестороннее образование — вот что может умягчить огрубевшую русскую натуру. Благо, что государыня наша поняла это. Народные училища — великое дело. И мы неплохо его начали. Вот и тебе, Петр Иванович, приобщиться бы. Такие знания! Приложи их.
— Покорно благодарю. В службе не вижу никакого толку. Ни в штатской, ни в военной. Сбил охоту-то. Теперь тщусь служить одному Богу. Только Ему. Господь есть Дух, а идеже Дух Господень, тамо свобода.
Радищев давно заметил в углу за столом одного странного человека и время от времени наблюдал за ним, отвлекаясь от разговора. Человека этого с первого взгляда можно было принять за дворянина. Он был в серо-серебристом глазетовом кафтане, в зеленом камзоле, над которым белело кружевное жабо, и в двухъярусном парике цвета седины. Обыкновенный провинциальный дворянин, приехавший из какой-нибудь тамбовской усадьбы в столицу. Но слишком уж угловато выпирают его плечи, обтянутые блестящей парчой, да и руки тяжеловаты, а главное, нижняя часть лица, синевато-белая, резко отличается от верхней — темной, обветренной. Нет, это не помещик. Мужик. Да, бывалый, умный мужик. Месяц назад он забрался в хоромы своего барина, захватил его одежду, попутно очистил выдвижной ящик конторки и отправился в далекий путь. Под Петербургом он сбрил бороду, переоделся и пошагал дальше. Обошел заставу, попал в город и вот уже сидит в столичном трактире, обдумывая, куда податься теперь. Освободился. Но надолго ли? Таких в Петербурге много. Их ловят, секут и передают законным владельцам. Или угоняют в Сибирь. А что, если предложить в дружину-то набирать и беглых? Императрица и ее правительство почти в безвыходном положении. Пожалуй, согласятся. Тогда можно будет и город защитить, и спасти сотни несчастных бродяг. Подойти бы сейчас к этому новоявленному дворянину и спросить, готов ли он вступить в добровольную команду. Нет, он так просто не выдаст себя, не откроется. Вот уже забеспокоился, отвернулся, заметил, что за ним наблюдают. Не надобно его тревожить. Быть может, это его первая и последняя свободная ночь.