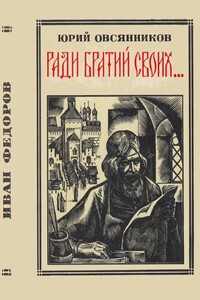Крик вещей птицы | страница 39
— Александр, не пора ли к пенатам? — сказал Челищев. — Елизавета Васильевна небось потеряла тебя.
— Елизавета Васильевна? — заговорил Костров. Головы, однако, он не поднял, все так же упираясь лбом в ладони. — Кто такая Елизавета Васильевна? Откуда здесь женщина? Да, вы ведь еще с женщинами… А я от них ушел. Давно ушел. Женщина — невыносимое бремя. Уж я-то знаю. Испытал. И меня ведь любили. Правда, одна только. Она ходила в платье цвета воздушного поцелуя. И любила воздушно. Не плоть, а душу любила. Преодолела мою гнусную оболочку и полюбила. Где она? На небесах? Нет, выше. То была моя Аспазия. Но я ведь не Сократ. И не Перикл. Мне и Аспазии не надобно. Я совершенно свободен. Да нет, и я, родимые, не свободен. У меня есть гробик. К ночи мне всегда дают гробик. Четыре стенки, потолок и пол. А я хочу быть совсем, совсем вольным. Как кукушка. Кукушка никогда не возвращается на прежнее место.
— Ермил Иванович, вы изрядно отяжелели, — сказал Козодавлев. — Мы отвезем вас к Шувалову.
— Что? Что? — Тут поэт вскинул голову. — Отвезете? Нет, милейшие, Костров горд. Он презирает колеса. У него есть ноги. Хотя и кривые, но свои. Меня сам князь Потемкин хотел однажды отвезти из своего дворца. Прокатись, говорит, Ермил, в карете с моим гербом — авось запоешь позвучнее. А я ему — дулю, дулю. «Нате отведайте, ваша светлость».
Козодавлев прыснул, отбросился на спинку стула, затрясся в смехе, потом подался вперед, схватился за живот и разразился заливистым хохотом, и, глядя на него, покатился Радищев, затем не удержался и Челищев, и теперь они хохотали втроем, и смех этот сразу смыл с них все то, что мешало им сегодня сблизиться. А Костров, даже не поняв, почему они так развеселились, снова уткнулся лбом в ладони. Он совсем ослаб, и поднять его, чтобы отвезти к Шувалову, не удалось, так что друзьям пришлось оставить его проспаться за столом.
Когда они вышли на улицу, их догнали звуки скрипок, вырвавшиеся в открытые верхние окна трактира. Это опять взвился разгульный фоминский мотив из «Ямщиков на подставе». Челищев остановился, прислушался и вдруг пустился в пляску, закрутился в желтом свете фонарей, развевая полы своего серого будничного сюртука. Его окружили зеваки, но они не смутили его, а только пуще раззадорили, и он пошел вприсядку. Так неожиданно он мог когда-то вскочить на чужого коня и поскакать по людным бульварам, так ныне бросается от икон с кулаками к оплошавшему певчему.