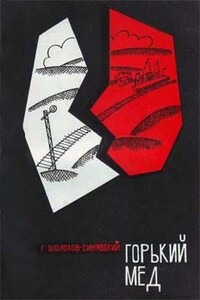Жизнь | страница 11
— Точно, Данилыч, — с радостью подхватил Бойко. — Я, к примеру, о себе скажу. До войны я тоже взирал на жизнь с высоты птичьего полета. Все мне было доступно, все удавалось, и я брал от жизни все, что хотелось, не задумываясь. Окончил я индустриальный, проходил стажировку на крупном заводе, а оставался спортсменом. А спортсмены — народ легкий, для них все кажется дешевым. Я, может быть, жениться до войны не успел поэтому, хотя и девушки возле меня были приличные. Я больше спортом увлекался. Голкипер я, не хвастая скажу, классный. По футболу был чемпионом города. Перед войной должен был на столичный матч ехать, но, как видите, попал на другое поле. Стал я забивать голы в фашистские ворота. И вот, на первом же месяце войны, случился со мной душевный переворот. Отступали мы из-под Харькова. Сами знаете, что это было за время. Огонь, пепел, слезы, черные лица, детские наполненные ужасом глаза! А дороги, что это были за дороги! Когда мы их забудем, Данилыч! По ним на восток текло народное горе и самые железные люди плакали на этих дорогах… Да что люди? Камни, казалось, плакали… И вот, помнится, остановились мы в каком-то хуторке. Такой маленький, заброшенный в степи хуторок. Чистенькие хатки, вишневые садки, гуси, масса скота, на токах — горы хлеба, и народ такой добрый, сытый, покойный. Колхозники еще не знали точно обстановки. Многие пришли с работы и сели ужинать, как вдруг… В общем, немецкие танки были уже в восьми километрах, когда мы наспех стали занимать оборону. Но тут новый приказ — отходить. И вот я никогда не забуду этого вечера. Плач, детские крики, бабы причитают, скотина ревет, а мы уходим… Вы понимаете? Уходим. Бросаем землю, гостеприимных людей, теплый хлеб, вишневые сады… Забежал я в одну хату, вижу — накрыт стол, будто собрались вечерять, а за столом — никого. Все — молодайка, старуха, дивчина лет восемнадцати, детишки — столпились у двери, плачут, как по покойнику. Вижу — дивчина, — обыкновенная, здоровая колхозная девушка, широкоскулая, некрасивая, нос пампушкой, — смотрит на меня черными, страшными глазами, а в глазах слезы так и кипят… Сердце мое так и повернулось. Сколько ни было у меня до войны дивчат — ни одна не казалась мне такой родной, как эта колхозная дивчина. Как только в бой, так вот и стоит передо мной со своими жалобными глазами и руки сами вырастают, чтобы фрицам глотки рвать… Помню, молодайка и старуха окружили меня, плачут, как будто я их родной сын и покидаю их навсегда. А дивчина схватила за ремни и голосит: «Ом, мамочка, ой, товарищ командир, что же с нами теперь будет? Ой, что будет? Отнял я ее руки от своих ремней, крикнул, что мы еще вернемся и — айда из хаты. Что я еще мог сказать? Судите сами, что я должен был переживать в ту минуту и как смотреть на жизнь? Тогда-то и и познал настоящую цену всего на земле, Данилыч. Самая незаметная мелочь стала для меня дороже в тысячу раз…»