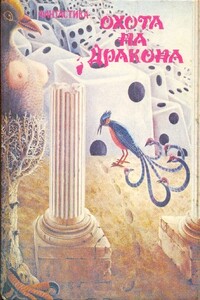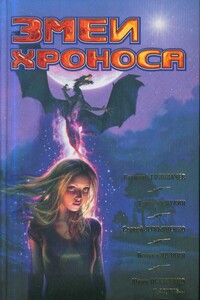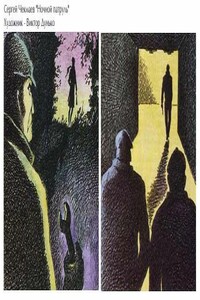Катастеризм | страница 116
Неужто мы в самом деле породили цифровую жизнь?
Большинство, впрочем, называло тех, кто готов был выписывать нейросетям паспорта, романтиками. Феномен был несомненен: из-за перегруза данными поведение обучающейся системы становится странным. А вот как это оценивать, вопрос открытый.
Если перегрузить мусоросжигатель мусором, он тоже поведёт себя странно, но разумным это его ещё не делает.
Идея проверить аналогичный принцип на людях отчасти нужна была всё тем же архитекторам нейросетей: как это всё работает у несравненного прототипа? Начнёт ли его тоже циклить на рефлексии, если послать ему сразу слишком много данных, и если нет, то как именно устроен предохранитель, способный от этого защитить? Можем ли мы его скопировать?
Отчасти же это было самостоятельное исследование. Юлия Николаевна, к примеру, верила, что такой ошибки не возникнет – просто потому, что человек не цифровое существо, а сенсорное: он много тысячелетий формировал способность обрабатывать сразу много каналов восприятия. Наш мозг очень легко перераспределяет нагрузку – зафиксированы случаи, когда половину его человеку попросту удаляли (из-за травмы или чего-нибудь подобного), а он не терял ни памяти, ни когнитивных способностей.
В общем, она была уверена, что живой мозг приспособится к чему угодно.
Судя по первым осторожным экспериментам, Юлия Николаевна была и права, и неправа одновременно. Когда людям специфически перегружали восприятие – например, создавая им «второе зрение» (что очень важно – работающее одновременно с первым, иначе не получится перегруза), это вело к разрыву старых нейронных связей и формированию новых. Причём каким-то неевклидовым образом: дело не в том, что человек-де смотрел часами на мастера кунг-фу, а потом сам неожиданно овладевал этим искусством. Так бывает только в сериалах. А в реальности эффекты были странными и нелогичными.
У одной пациентки открылась неожиданная способность к языкам – нет, она не заговорила в одночасье на санскрите, но выучила его за полтора месяца до уровня специалиста, хотя раньше таких талантов не проявляла. При этом другие сложные системы (языки программирования, знаковые языки) ей так не давались, что отдельно ставило всех в тупик.
Юлии Николаевне нравилась вот какая гипотеза. Есть разные способы учить живые языки, но объединяет их одно: эмоции. Человеческие языки так или иначе описывают реальный мир – даже когда речь идёт об абстракциях. Нет языка без слова «мама» или слова «я». Это и отличает их от искусственных систем. И то, как мы запоминаем связанные с этими явлениями языковые единицы, вполне вероятно, связано не только с зазубриванием, но и с эмоциональными привязками к ним. По крайней мере, энцефалограммы и сканы крови переводчиков-синхронистов показывают, что взаимодействие с языком – очень эмоциональный процесс.