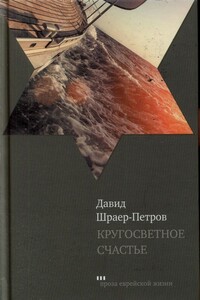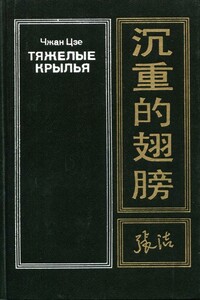След заката | страница 5
— Еще не решила… подумаю…
— Думай, думай, — монашка обидчиво поджимала сухие тонкие губы и уходила. Монастырь старился, а молодые руки стали редкостью. Монастырское бытие тяжелое: работы, молитвы — все выматывало.
Трифонов, не переносивший присутствие Ефимии еще с молодости за то, что чуть не сманила святоша Марфу в монастырь, когда он впервые ударился в разгульный запой. Гонял ее трехрядным и, зарядив себя портвейном из «огнетушителя», завидев во дворе монашку, орал на всю деревню, раскрылив во всю ширь ворота:
— Мотай отсель, опиум для народа! Катись, катись!.. Святоша! Нагулялась с вербованными?! Теперь грехи замаливаешь. Истину ищешь? А она вот! — он хватался за мотню, ржал: — Ха-ха-ха!..
Деревня покатывалась со смеху, в который уж раз наблюдая бесплатный концерт. А Ефимия, как ошпаренная, выскакивала с подворья сеструхи, мелко-мелко крестясь, не шла, а бежала к остановке, гася одышку от волнения: «Свят, свят! Господи, прости ты душу грешную!.. Дьявол в мужика вселился!» — про себя твердила она молитвы, боясь оглянуться на громилу, стоявшего посреди улицы в рубахе нараспашку.
Марфа, обложив мужа всячески, провожала сестру до автобуса, обещая помолиться в Атамановке за безбожника мужа и принять на себя его грехи.
— Ты уж прости меня, Фима! Куда денешься?! Жизнь вместях ведь прошла…
А в глазах покорности не было.
Зоя все думала об этом, но решиться не могла на этот шаг, зная, как воспротивятся все в доме, а особенно сыновья, воспитанные на березинских дрожжах. Так и жила, мучаясь, до сего дня на распутье, вспоминала мужа, соорудив вокруг себя стену. «А стеночка-то рыхлая. Ткни и развалится, — думала она. — А покоя нет!» Теперь-то она знала, отчего военные вдовы не искали в большинстве своем нового счастья, в новом замужестве. Боялись они оскорбить не только память любимых, а больше всего стронуть нажитое в согласии и любви душевное тепло, хранившееся в глубине души, навечно запавшее в сердце. Так и Зоя боялась растерять все, что было приобретено с Березиным Александром Петровичем там, на зоне в Марьинской каторге, и тут, уже на воле…
Несмотря на строгую замкнутость, почти монашескую жизнь, Зоя исправно работала в больничке и по дому, не старела, а как ни скрывала, красота из нее так и перла. Словно не было за ее хрупкими плечами тюремных камер, тесных, воньких и душных, изнуряющих скотских этапов, жуткой каторги и гибели двух мужей, которые были для нее одинаково дороги. Где-то в золоте волос прятались серебряные нити, словно воробушки в копне. «У рыжих кровь бурливая, как Бересеньские стремнины, — успокаивал родню Ветров. — Не трожьте!.. Переборет все невзгоды». Родовую силу со счетов скидывать не надо, но скорее всего, радость материнства, испытанная ею дважды, хранила ее от всяких подлых ветров, вдыхая новые жизненные силы в рыжую кровь, не давая угаснуть, рассеять морщинки возле красивых синих глаз и иссушить ядреное женское тело, познавшее чистую услаждающую любовь и грязь лагерных закутков. Даже годовая полнота ее красила. На завистливые взгляды и восклицания местных баб наигранно отшучивалась, пряча в глубине глаз пережитое: