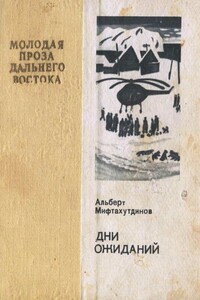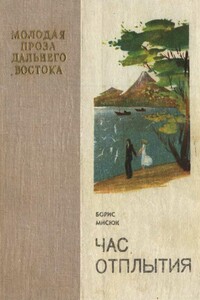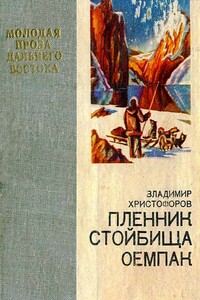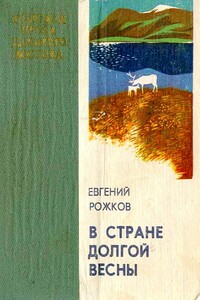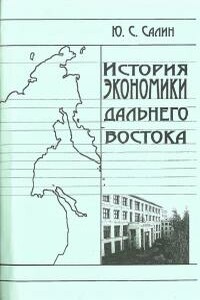Отраженный свет | страница 124
— Да вы что, хотите, чтобы на вас повесили стоимость кобылы? Какой же дурак ревизор вам поверит? Лучше придумайте что-нибудь пореальнее, ну, например, признайтесь, что вы по халатности опоили кобылу, и она сдохла. Ну, выговором отделаетесь, и все. А так — непременно повесят на вас эту кобылу...
Может быть, ревизор и поверил бы как человек, но как ревизор он обязан ничему не верить. Кроме того, ведь есть еще ревизоры, ревизующие самих ревизоров, и те бы уж ни за какие чрезвычайные доказательства не поверили фантастическому акту. И непременно повесили бы эту кобылу на самого ревизора. А скажите, какому ревизору понравится, если на него будут вешать кобыл, которых он и в глаза не видел.
Для камчатского геолога единственная возможность заставить себе верить — постоянно соразмерять происходящее с привычной для европейца меркой, за пределами которой начинается категорическое «так не бывает». Английский фермер, впервые увидевший жирафу, тоже ведь заявил сначала:
— Такая длинная шея? Этого не может быть!
Есть и другая возможность заставить себе верить.
Для этого надо просто-напросто включить в состав отряда нотариуса с печатью. Но какой же нотариус согласится поехать в тайгу кормить комаров, тем более, что там ему постоянно не будет давать покоя мысль, что он дискредитирует себя в глазах коллег и вышестоящих инстанциq, если будет утверждать без разбора все увиденное собственными глазами. А дискредитированный нотариус — все равно что конь, посаженный на задние ноги.
Других методов заставить себе поверить нет и быть не может. Ну я тогда и не буду заставлять. Я просто попрошу — верьте мне. Ведь если бы я захотел соврать, неужели не придумал что-нибудь поправдоподобнее?
— Вот еще тон у тебя бывает каким-то таким.. Знаешь... Ну можно представить себе черт-те что...
— А-а... понятно! Это, если, например, я пишу про комаров, то тон должен быть таким, чтобы читатель — боже упаси! — не подумал бы, что комаров было сто, если в действительности их было всего девяносто девять.
— Н-да... ну в общем поточнее надо быть, пообъективнее, а то вдруг кто-нибудь представит себе не совсем то, что было на самом деле... И еще, — не унимался мой дотошный оппонент. — Хорошо, пусть все в отдельности будет так, но в действительности-то эти приключения происходили не так уж часто.
Что можно было возразить на это? Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается? Или, может, поддавшись на провокацию, вставлять между отдельными приключениями былинное «долго ли, коротко ли», «жили они поживали, и вдруг... » или давать кинематографические титры «прошла неделя», «прошел месяц...»?