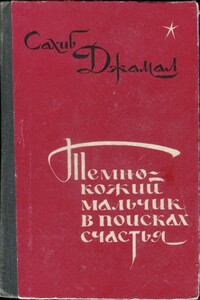Березонька | страница 58
А как же? Леонтий понимал, очень хорошо понимал, что бабушка хотела сказать.
А она продолжала:
— Еврейский бог строгий. У него ничего не выпросишь, хоть на колени стань, хоть лоб расшиби, хоть делай ему поклоны до самого пола — лоб, может, и заживет, но всевышнего все равно не убедишь, не уговоришь, он сам знает, что творит. Бог не забывает и не отпускает грехи, ничего не прощает, кайся не кайся.
Клара Борисовна перевернулась на правую сторону и подложила сжатую в кулачок руку под щеку.
— Между прочим, если ты хочешь знать мое мнение, я тебе скажу. Не так уж это плохо — бояться грешить. Но тут, мне кажется, можно обойтись и без веры в бога. А вот избавиться от предрассудков, по-моему, очень сложно, почти невозможно. Во всяком случае, у меня их сколько хочешь. Сама удивляюсь, как сильны могут быть в человеке пережитки. Ты, поди, не замечал, ибо я старалась делать незаметно от тебя, но до сих пор перед Новым годом все уголки нашей квартиры на Привольном смазываю медом, чтоб предстоящий год сладким был, не горьким. А сколько раз я постилась? Не перечесть. Если две недели не получаю с фронта письма от твоего отца, устраиваю великий пост. Потом еще какая-нибудь беда — и поститься вновь — святое дело. А ради тебя, думаешь, я мало постилась? Все твои экзамены постами сопровождались. Лучше меня, наверное, никто не знает, что никакого бога нет, но, как видишь, жертвы ему приношу исправно. Ведь пост, в сущности, и есть жертвоприношение. В чем же дело? Обыкновенная привычка? Сомнительно. Короче, парень, ставь богу свечку, что ты неверующий.
Приподнявшись на локте, Клара Борисовна оглядела Леонтия оценивающим взглядом, точно решала для себя, годится ли он в набожные. Может, и годен? Кто знает? На всякий случай предупредила:
— Ты бы треснул от одних только молитв, которые мужчина должен за день богу выдать.
Леонтий деланно вздохнул:
— Знаю, тяжко быть верующим евреем.
Она поспешила успокоить его:
— Тебе-то, во всяком случае, эта беда не грозит.
Он осведомляется:
— Интересно, а как в Израиле?
— Черт их знает, — отозвалась Клара Борисовна и умолкла.
В памяти всплыла первая ночь после смерти Егудо, когда он лежал на полу в спаленке и черепки прикрывали его веки. Возле него на низком стульчике сидел старый-престарый еврей из местной общины и читал псалмы. Она сама этого старика пригласила, и не только потому, что ее Егудо до последнего вздоха был верующим. Молился он дома, а в религиозные праздники посещал молельный дом. На косяке входной двери в доме на Привольном переулке Егудо приладил мезузу — свернутый пергамент с текстом писания и не единожды наказывал, чтоб, когда он скончается, его похоронили по еврейскому обряду. Глубоко в сердце запали картины детства и юности, до сих пор помнит она, как ранними рассветами по субботам водовоз стучался к отцу в окошко и плаксивым голосом звал: «Реб Борихайзик, вставайте, пора идти молиться».