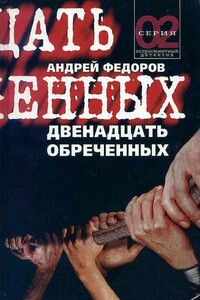Желтый караван | страница 119
На одном из натюрмортов медный кувшин стоял на дощатом столе, изготовленном тремя широкими мазками. Казалось, на всю картину пошло десять — двенадцать мазков. Но все было: вязкая тяжесть меди, занозистая фактура досок. Хвалился собой стакан, который я тут же увидел в натуре — столбик воды, сверху прихваченный золотым колечком…
— Вон там старые мои, — «старик» сутулился, погружал руки в карманы, прислушивался, — трудно шло с ними. Один раз я пень на себе из леса припер. Эффектно чтоб, с натуры. Глянь — мертвое. Но тут был один человек.
— Пал Палыч?
— Отличный дед! Сам этим грешил. Советовал тут. Это, мол, долг, если дано! А дано ли, не узнаешь! Вы тут свою психопатию высматриваете, а я что могу сказать? Писать то, к чему подходит готовая идея, — наглядное пособие получится? А зрителю… его надо заставлять думать. Так? Тогда ему интересно. И — доверие чтобы было у него. Чтобы видел — это есть правда. Отсев нужен — берешь самое любимое. Открыть нужно: вот стакан здесь. Что? Самое главное взято — столбик воды. Разве нет?..
— Вы рассказали как надо. А для чего?
— Знал бы сам…
— А по ночам кто к вам ходит?
— Тонька. Гуляет в моей шубе. Гляжу, мол, это вчера в окно, а эти сидят, сплетничают. Тамарка давно психиатром грозилась…
Он что-то не спешил показывать картину.
— Вон там еще посмотрите.
Пейзаж. Лето. Вечер. Тени и лиловая дорога убегают упираются в знакомое плато с колючей порослью крестов. Сочетание лилового и золотого. Трагическое счастье? Несмотря на уже видимый конец?
— Перепашут дорожку-то, — поддержал настроение «старик», — никто этого момента больше не увидит. Без меня. Может, пишу для этого?
— Я бы такую повесил у себя на всю жизнь.
— Спасибо. Эту я сделал ничего. Жизнь требует свидетеля, Я делаю это серьезно теперь. Как говаривал… великий Хемингуэй, надо, чтобы все знали, как жил человек и… какая тогда была погода.
— Много читаете?
— Когда больше ничего не могу. Эту картину я написал зубами. Не всю, я не хвалюсь. Это беда. Я не мог такое упустить, а тогда, летом, у меня вообще, к чертям, руки раздулись. Вот так и писал. Кисть к руке привязывал. Потом и локти полетели. Да будь я здоровый… хотя, может, тогда как раз ничего бы не написал?.. С вами почему-то говорить легко… не как тогда.
— Когда? Мне эти (кивок вниз) кое-что рассказали.
— Само собой, рассказали! А как же? Ну что? Так с ума сходят? Ладно, слушайте! Вот тогда, когда у меня жена в двадцать восемь лет от рака за год померла, сломался я, действительно… каждый божий день приходишь вечером… руки в солидоле… пусто. Сыну восемь было, эти (кивок, в пол) его насоветовали в школу-интернат. Нет, я рисовал-то с первого класса. Ну и стал я отвлекаться. Да. Зазвал Пал Палыча смотреть. Тот, мол, ты давай серьезно, не с чужих картинок, дуй с натуры и ищи в ней, чего никто не нашел. Тут и натура подвалилась… как в рассказике. Но, кроме одной картинки, у меня все… выкинул почти все или поверх новое написал. Но в тот момент у меня с нижним этажом — холодная война и я себе — отдельную лестницу. А потом — трах, приезжает такой… носик клювиком, глазки бегают, мол, я психиатр — кандидат наук. А вы есть «механизатор машин»… машин! и почему-то рисуете! Вы же не имеете специального образования! Показал я ему картинки, а он: все вычурно, бесполезно и непрактично, главное дело! Вы бы, мол, своего начальника портрет или красного рабочего… Я говорю, что начальника я в гробу видал, а рабочие у меня не красные, а рыжие от солидола, а красных, которые поддают, их — в шею! Да-а, говорит, тогда, мол, нам надо посоветоваться с вышестоящим консультантом, а то у вас намечается какой-то «синдром второй жизни». И ведь обманул, зазвал на консультацию в областную, а там меня заперли, как депрессивно-бредового и непрактичного… правда, у меня врач был человек — через десять дней выписал, даже на учет не поставил, только рисовать заказал… с натуры.