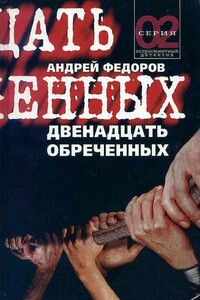Желтый караван | страница 114
— На рынке! За трояк бухой нюшке из Можайска! Убери это все и не сори мне тут! Дега! Женщину надо подавать как конфетку! Сладко чтоб! Дега!
Старик, вернувшись от мецената, бросил картины в угол и забился в угол тахты сам.
С тех пор он бросил живопись. Стал медленно и неохотно двигаться и даже съел ложкой икру из большой банки, которую берег к юбилею. Съел неохотно, невкусно, даже без хлеба. Он привык, что над его головой топают постояльцы, и не удивился однажды, когда вечером к нему спустилась одна жиличка-блондинка:
— А вы все это с натуры рисуете? Вы живописец? А вы тогда почему такой мрачный? Вы еще молодой, а, я вижу, вы умирать собрались! А вы не подниметесь ко мне? У меня там темно и кто-то за шкафом сидит!
Старик пожал плечами и неохотно, кутаясь, пошел за блондинкой. За шкафом никто, конечно, не сидел.
Блондинка была в прозрачной рубашке. Вся просвечивала.
— Ты же ведьма! — догадался старик…
Наутро выяснилось, что она хочет ему позировать.
— Бросил же я! — смеялся старик. — Нету у меня способностей!
— Нет есть! — сердилась она. — Просто тебе не хватало меня!
Они часто бродили тогда по пустеющему пляжу. Море становилось стальным, окна отливали льдом и синью. Сезон кончался. Но она не уезжала.
— Рисуй! А то я уеду! — грозилась она. А ему этого не хотелось. Он этого боялся. И однажды отодрал от стола присохшие тюбики, набрал кистей в кулак, достал тот, заветный, дефицитными свинцовыми белилами загрунтованный холст.
— Давай, давай! Мне охота, может, в веках остаться!
Он выдавил на палитру охру, белила и кадмий. Смотрел на «ведьму» и видел рождающиеся и умирающие тона, видел впервые, как бежит по коже воздух, как возникают на ней охряно-зеленоватый, бледно-малиновый. Как синеют тона вслед за взмахами занавесок. И начинал понимать, что тело может быть не просто красивым и желанным, но и ранимым и беззащитным. И старик запел. Черт-те что, что-то бравурное, какую-то смесь из Гершвина и Окуджавы, чаще всего повторяя «это любовь была». Краски ложились сочно и скользко, ухал прибой, мотались занавески… он, наверное, очень боялся, что скоро она уедет и ничего не останется от нее, кроме картины…
— Вот и все! — сказала она. — Я все угадала!
На другое утро старик ее не нашел.
Не нашел еще своего серебряного подстаканника, пачки десятирублевок в ящике стола, может быть, и еще чего-нибудь не хватало, но старик не стал и проверять. Он бродил по комнатам, ушибая коленки о стулья и озираясь, а картину на мольберте вообще не замечал.