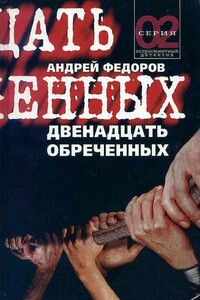Желтый караван | страница 11
Клавесин раздраженно кашлянул и привалился к дальней стене. Тут, думала Анна Ивановна, его будет не так уж слышно соседям.
— Довез! Ну и апп!
— Я надеюсь, что основной механизм цел. Трудности были с подъемом, — руки у дяди Феди тряслись, ржавые патлы все тянулись вверх, словно потолок был намагничен.
— Спасибо вам! Я дам одной бумажкой?
— Оп-мати?!
— Хорошо. Вам, Паша, отдельно. Вот. Хватит?
— Анна Ивановна! Это сверх ожиданий! Желаем нормальной учебы на аппарате! У вас растет замечательный сын! Дай лапу, Гена!
Анна Ивановна стерла ладонью пыль с крышки:
— Ну вот. Говорят, что можно найти в городе настройщика. Ты доволен?
Генка поднял знакомую крышку и ударил по клавишам. Но ни одна не звучала.
ГЛАВА 3
Участковый Степанов когда-то считал себя хорошим психологом. Не то чтобы хорошим, не совсем психологом, но ему часто все-таки удавалось без угроз и рукоприкладства утихомирить «ужратиков» у магазина, успокоить задравшихся супругов, уговорить истериков. На его памяти только где-то в первый год службы пришлось ему стрелять. Больше от злости, от растерянности. Почти на его глазах наглый бандюга утащил мешок хлеба из сельпо. Степанова же смазал по скуле и, уронив бабок на крыльце, понесся под гору, к речке, в поля.
— Стой!! — трижды крикнул с крыльца Степанов. От крепкого удара мутилось в голове, капала кровь на рукав новенькой формы. Степанов достал пистолет.
— Участковый! Ой, не надо! — шептали вокруг бабки.
Степанов выстрелил вслед бандиту дважды (выше на целый его рост). Тот не остановился и мешка не бросил. Провалившись в тень от верб, мчался уже к мосткам, на мостках упал, вызвав у бабок дружный вздох, но вскочил, семеня крошечными ножками и ручками, перебежал мостки (черный муравей с белой запятой мешка на спине), а потом его голова-дробинка стала тонуть и выныривать в гряде бузины, словно он плыл по бузине баттерфляем.
А бабки заговорили жалостливо:
— Ой, беда-а! Куда ж он теперь?! Все одно споймают!
Степанов, тогда очень худой, обтянутый формой, злой и легкий, вертелся на крыльце, над белыми платочками, высматривая соболезнующих бандиту. Его разбитая физиономия не производила впечатления. Бабки жалели бандита.
Жалели бандита, утащившего тот самый «ситник», за которым они с рассвета занимали очередь.
Так, столкнувшись с непонятными, не по инструкциям и правилам возникавшими «изгибами жизни» (так все непонятное называл Степанов), научился участковый с годами что-то допускать неуставное, от чего-то отмахиваться и даже доработался до раздвоения совести, вернее, до двух отдельных, одну совесть называя про себя «человеческой», а другую «государственной». Да и до начальства было далеко… За полтора десятка лет на участке случилось десять пожаров, восемь самоубийств и пять убийств. Были еще кражи, членовредительства, несчастные случаи, «изнасилования», кончавшиеся обычно отдаленным и робким сначала, а затем уверенным и коллективным «горько». И распахивались окна в каком-нибудь доме, и окатывало из них весь поселок ревом гармошки, топотом и отчаянным бабьим хором: