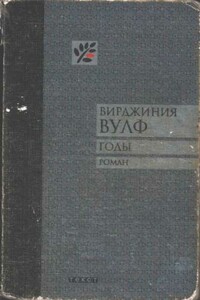Своя комната | страница 45
Настало время вернуться к книге. Чем размышлять, что Мэри Кармайкл напишет или может написать, куда полезнее выяснить, что она уже написала. Вернувшись к чтению, я вспомнила, что у меня уже родились некоторые претензии. Она отказалась от остинской манеры письма и не дала мне случая применить свой безупречный вкус, идеальный слух. К чему говорить: «Да-да, все это очень мило, но Джейн Остин писала куда лучше», если приходится признать, что эти две писательницы ничуть не похожи. Затем Мэри пошла еще дальше и нарушила последовательность – предполагаемый порядок вещей. Возможно, это было сделано бессознательно – она просто соблюдала естественный для женщины порядок вещей. Но эффект оказался ошеломительным: читатель видит, как нарастает волна, как грядет конфликт. А мне так и не представился случай возгордиться тонкостью своих чувств, глубоким пониманием человеческой души. Ведь каждый раз, как я собиралась ощутить то, что полагается чувствовать при столкновении с любовью или смертью, докучливое создание уводило меня в сторону, словно кульминация была еще чуть дальше. И у меня не оставалось шансов произнести подобающие фразы о «непреодолимых чувствах», «человеческой сути», «глубинах человеческого сердца» и прочие, помогающие нам верить, что как бы остроумны мы ни были, на самом деле мы очень серьезны, глубоки и человечны. Напротив, она заставила меня почувствовать, что на самом деле мы не так уж человечны, серьезны и глубоки – скорее ленивы и ограничены, а это была куда менее приятная мысль.
Но я продолжала читать и отметила кое-что еще. Она не «гений», это очевидно. В ней нет той любви к Природе, пылкого воображения, необузданной поэтичности, блестящего остроумия и мрачного таланта ее великих предшественниц – леди Уинчилси, Шарлотты Бронте, Эмили Бронте, Джейн Остин и Джордж Элиот; ее письму недостает мелодичного благородства Дороти Осборн – она всего лишь умная барышня, а ее книги лет через десять наверняка сдадут в макулатуру. Однако она обладает определенными достоинствами, которых недоставало куда более талантливым женщинам даже полвека назад. Мужчины для нее уже не были «враждебным племенем»; ей незачем было тратить время на противостояние, не нужно было забираться на крышу и нарушать свой душевный покой мечтами о том, в чем ей было отказано: путешествиях, жизненном опыте и знании света и характеров. Страх и ненависть почти исчезли – их следы можно было заметить только в слегка преувеличенном наслаждении свободой и стремлении говорить о противоположном поле в едком и саркастическом тоне, без романтических придыханий. Не подлежит сомнению, что как писательница она обладает некоторыми достоинствами высшего порядка. У нее свободный и открытый разум, чувствительный ко всякому воздействию, подобный молодому цветку, что откликается на всякий луч и звук. Она тонко и любопытно пишет о неизвестных или не описанных ранее предметах, освещает различные мелочи и показывает, что, возможно, они не так уж и малы. Она извлекает на свет то, что было некогда погребено, и заставляет нас задуматься – зачем же было предавать это погребению. Несмотря на некоторую неуклюжесть и отсутствие незримой поддержки многовековой традиции, которая делает малейший росчерк пера Теккерея или Лэма наслаждением для взора, Мэри Кармайкл, как мне стало казаться, освоила первый важнейший урок: она писала как женщина, но словно бы забывала, что является женщиной, и потому ее текст притягателен, как бывает притягателен человек, забывший о себе.