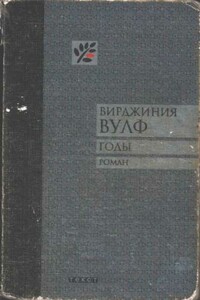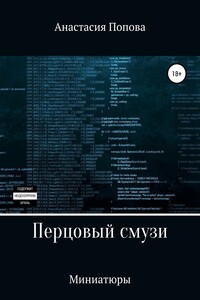Своя комната | страница 44
Однако большинство женщин все же не куртизанки, не распутницы и не проводят летние дни, прижимая мопсов к пыльному бархату платья. Так что же они делают? И тут мне представилась одна из тех длинных улиц к югу от реки, где люди живут друг у друга на головах. Перед моим мысленным взором появилась старушка, которая переходила улицу под руку с дамой средних лет – видимо, дочерью. Обе так благопристойно одеты, что сразу видно, это целый ритуал: зашнуровать ботинки, укутаться в меха, а летом все это перекладывается камфорой и убирается в шкаф. Когда загораются фонари, они переходят улицу (сумерки – их любимая пора), и так много лет. Старшей почти восемьдесят, но если спросить, что значила для нее жизнь, она скажет, что помнит фейерверк в честь битвы при Балаклаве или ружейный салют в Гайд-парке в честь рождения Эдуарда VII. А если вы захотите зафиксировать воспоминание конкретной датой и спросите, что она делала 5 апреля 1868 года или 2 ноября 1875-го, она уставится в пространство и скажет, что ничего такого не помнит. Все ужины приготовлены, тарелки и чашки вымыты, дети отправлены в школу и выпущены во взрослую жизнь. Ничего не осталось. Всё в прошлом. А в биографиях и исторических трудах об этом ни слова. И все романы невольно лгут.
Эти безвестные жизни лишь предстоит описать, сказала я, обращаясь к Мэри Кармайкл, словно она сидела рядом, и мысленно отправилась в путь по лондонским улицам, ощущая, как давит на меня безмолвие, как сгущаются невысказанные судьбы: то ли это исходит от женщин, что стоят на углах подбоченясь, кольца врезались в отекшие пальцы, болтают, словно в шекспировских пьесах, то ли от продавщиц фиалок и спичек, то ли от старух, застывших в дверных проемах; то ли от девушек, в чьих лицах отражаются проходящие мимо мужчины и женщины и огни витрин, словно солнце и облака в волнах. Вам предстоит обследовать все это, крепко держа факел, сказала я Мэри Кармайкл. Главное же – осветить собственную душу, все ее каверны и трещины, все высокомерие и щедрость и честно признать, что значит для вас собственная красота (или невзрачность) и в каких вы отношениях с изменчивым миром перчаток, туфелек, вещей и слабых ароматов, что испаряются из аптекарских сосудов и по аркадам из платьев стекают на псевдомраморные полы. Дело в том, что мысленно я уже вошла в магазин: пол был выложен черно-белой плиткой, стены были украшены разноцветными лентами невероятной красоты. Мэри Кармайкл стоило бы этим полюбоваться, подумала я, ведь это зрелище ничуть не меньше достойно описания, чем заснеженный пик или скалистое ущелье в Андах. Или взять девушку за стойкой – я бы предпочла узнать ее историю, а не стопятидесятое описание жизни Наполеона, семидесятый анализ поэзии Китса и мильтоновской инверсии в его трудах. Подозреваю, что старый профессор З. и ему подобные заняты именно этим. А потом я осторожно, на цыпочках (такая уж я трусиха, так страшусь кнута, который некогда чуть не обрушился на мои плечи) подхожу к ней и шепчу, что ей также следует научиться смеяться (без горечи!) над мужским тщеславием – или лучше сказать «мужскими странностями», это не так оскорбительно. У каждого на затылке есть пятно размером примерно с шиллинг, которое он не в состоянии увидеть самостоятельно. Это одна из тех добрых услуг, которые два пола могут оказать друг другу, – описать это пятно размером с шиллинг. Подумайте только, как много обрели женщины благодаря замечаниям Ювенала и критике Стриндберга. Как благородно, как неутомимо мужчины указывали женщинам на это пятно, начиная с античной истории! И если Мэри хватит смелости и честности, она зайдет за спину противоположному полу и скажет нам, что же там кроется. Невозможно создать верный портрет мужчины, пока женщина не описала его пятно. Мистер Вудхаус и мистер Кэйсобон