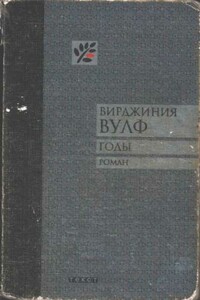Своя комната | страница 41
Кроме того, постепенно стало ясно, продолжала я, возвращаясь к книге, что не только мужчины, но и женщины интересовались чем-то за пределами домашнего очага. «Хлое нравилась Оливия. Они делили одну лабораторию на двоих…» – из дальнейшего повествования я выяснила, что девушки вместе трудились над измельчением печени, которая должна излечивать тяжелую анемию. И это несмотря на то, что одна из них была замужем и имела, кажется, двоих детей. Разумеется, такие подробности раньше не упоминали, и блистательный образ героини становился чересчур простым и однотонным. Предположим на мгновение, что мужчин изображают в литературе исключительно как влюбленных – они не дружат с мужчинами, не воюют, не мыслят и не мечтают; как мало места нашлось бы им тогда в шекспировских пьесах, как пострадала бы литература! Возможно, нам осталась бы большая часть Отелло и довольно много Антония, но Цезарь, Брут, Гамлет, Лир и Яго исчезли бы. Мировая литература оскудела бы – так же, как она оскудела из-за того, что женщинам было отказано в участии. Их выдавали замуж насильно, держали взаперти и не давали выбирать себе дело – драматург был не в силах изобразить их правдоподобно или сколь-нибудь интересно. Единственным достойным толкователем оказалась любовь. Поэта принудили испытывать страсть или разочарование или же решить для себя, что он будет женоненавистником (обычно это означало, что женщинам он просто не нравится).
Итак, если Хлое и вправду нравится Оливия и они делят лабораторию – что само по себе делает их дружбу более крепкой или разнообразной, поскольку она основана не только на личных отношениях; если Мэри Кармайкл действительно умеет писать (а мне уже начал нравиться ее стиль); если у нее есть собственная комната, в чем я несколько сомневаюсь; если у нее есть пятьсот фунтов годового дохода (но это неизвестно), – тогда, мне кажется, произошло выдающееся событие.
Ведь если Хлое нравится Оливия и Мэри Кармайкл знает, как написать об этом, она осветит факелом тьму, где ранее не ступала нога человека. Здесь все полумрак и глубокие тени, словно в извилистой пещере, где гуляешь со свечкой, не зная, куда идешь. Вернувшись к книге, я прочла, как Оливия ставит склянку на полку и говорит, что ей пора домой, к детям. Да это же невиданное в мировой истории зрелище! – воскликнула я. Мы с Хлоей внимательно наблюдали за ним – мне хотелось понять, как Мэри Кармайкл уловила все эти неописанные жесты, несказанные или недосказанные слова, которые оживают (но лишь отчасти, словно тени мотыльков на потолке) лишь когда женщины остаются наедине, вдали от своенравного света мужского мнения. Если она и вправду решилась на такое, ей надо притаиться, сказала я, продолжая чтение; ведь женщины так подозрительно воспринимают любой интерес, за которым не стоит очевидных мотивов, так привычны скрываться и сжиматься, что стоит лишь взглянуть в их сторону, и они тут же исчезают. Единственный способ (обратилась я к Мэри Кармайкл, словно она сидела рядом) – это говорить о постороннем, смотреть в окно и потихоньку записывать – не карандашом в блокноте, но тончайшей скорописью, еще не рожденными словами, – как Оливия, тысячи лет просидевшая в тени, ведет себя на свету, как она вдруг видит, что ей предлагают незнакомое лакомство: приключения, знания, творчество. И тянется к нему, продолжала я, снова поднимая взгляд от книги, пытаясь найти новые возможности в системе, искусно разработанной совсем для других целей, чтобы воспринять новое, не потревожив уже существующий тончайший и сложнейший баланс.