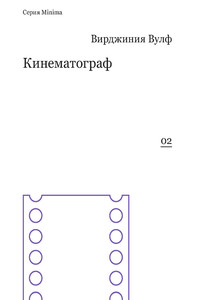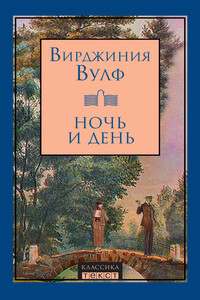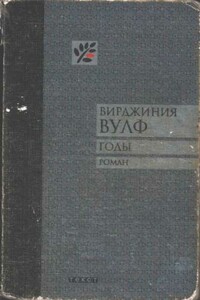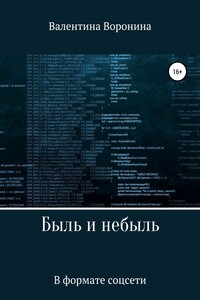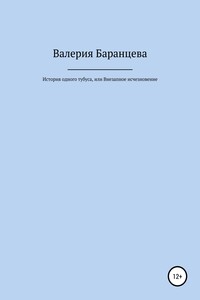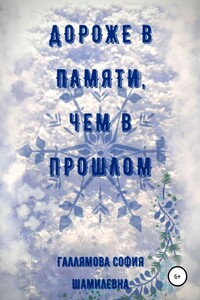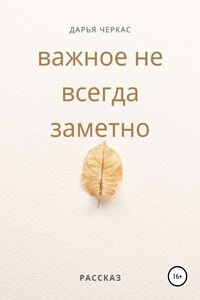Своя комната | страница 37
Но как же тяжело было не прогнуться. Какой талант, какая цельность требовались, чтобы устоять под налетом критики посреди глубоко патриархального общества. Такое удавалось только Джейн Остин и Эмили Бронте, и это еще одно их достижение, возможно, главное. Они писали как женщины, а не как мужчины. Из тысячи писательниц только им удавалось игнорировать бесконечные наставления со стороны – пиши так, думай эдак. Они одни оставались глухи к неумолчному голосу, который то ворчал, то распекал, то поучал, стыдил, возмущался, гневался или, так и быть, хвалил; тому голосу, что никак не уймется, словно слишком рьяная гувернантка, что вместе с сэром Эджертоном Бриджесом требует от них быть безупречными и даже в разговорах о поэзии умудряется заодно покритиковать весь женский пол[19]; а если они будут вести себя хорошо (и выиграют, видимо, какой-то блестящий приз), их все равно будут увещевать не выходить за рамки, установленные говорящим: «…лишь мужественно признав ограничения, налагаемые на них полом, писательницы имеют право стремиться к совершенству»[20]. Тут все ясно, и когда я сообщу, что, как ни удивительно, это было написано в августе 1928 года (а не 1828-го, как можно было предположить), вы наверняка согласитесь, что как бы смешно это ни звучало теперь, такое мнение по-прежнему популярно (не буду ворошить старые болота, подберу лишь то, что само приплыло к моим ногам), а уж век назад оно и вовсе преобладало. Требовалась изрядная доблесть, чтобы не обращать внимания на эти попреки, отповеди и обещания призов. Только настоящая смутьянка могла бы сказать себе: «Не купят же они всю литературу целиком. Книги – это всеобщее достояние. Ты не прогонишь меня с газона, университетский смотритель. Запирай свои библиотеки, но разум мой свободен, и ты не повесишь на него замок».
Но как бы ни угнетали писательниц начала XIX века такие нападки (а я полагаю, что угнетали, и очень сильно), все это меркло по сравнению с проблемой, которая подстерегала их, когда они пытались перенести свои мысли на бумагу: у них не было традиции, чтобы опираться на нее, а имеющаяся была так мала и ограничена, что мало чем могла помочь. Мы, писательницы, мыслим так же, как наши матери. К великим писателям можно обратиться удовольствия ради, но пользы от них ждать бесполезно. Лэм, Браун, Теккерей, Ньюман, Стерн, Диккенс, Де Куинси (кем бы он ни был) не помогли ни единой женщине, хотя у них и можно перенять пару приемов и приспособить их под себя. Вес, скорость, аллюр мужского мышления слишком уж отличается от женского, чтобы выудить из него что-нибудь полезное – это был бы мартышкин труд. Возможно, первое, с чем столкнулась бы женщина, взявшаяся за перо в начале XIX века, – отсутствие общепринятых высказываний. Все великие романисты – Теккерей, Диккенс, Бальзак – писали живо и легко, но не безалаберно, выразительно, но не манерно, каждый в своем стиле, но тексты их все равно были общим достоянием. Все они использовали предложения, которые были в ходу в то время. Роман того времени мог начинаться приблизительно так: «Величие их работ побуждало не останавливаться на достигнутом, но продолжать. Наивысшее удовольствие им приносило занятие своим искусством, бесконечный поиск истины и красоты. Успех побуждает к действию, а усилие приводит к успеху». Это мужское суждение, в нем чувствуются Джонсон, Гиббон и им подобные. Для женщины такое не подошло бы. Шарлотта Бронте при всем ее таланте спотыкалась бы с таким громоздким орудием в руках, Джордж Элиот и вовсе пустилась бы в бесчинства. Джейн Остин, однако, лишь посмеялась и придумала свою манеру повествования, простую и естественную, и более никогда с ней не расставалась. Хотя у нее и меньше таланта, чем у Шарлотты Бронте, сказала она гораздо больше. Поскольку в основе искусства лежит свобода и полнота выражения, недостаток традиции, скудость и ограниченность инструмента сильно ограничивали женское творчество. Кроме того, в книге предложения не выкладываются с цепочкой, но образуют аркады и купола. Эти аркады и купола также ввели в обращение мужчины – для собственных нужд. Нет оснований предполагать, что женщинам подходят эпические поэмы или пьесы, раз уж им не подходят мужские предложения. Но литературные жанры успели закостенеть до того, как она стала писать. Один только роман не успел застыть – возможно, она взялась за романы еще и поэтому. Но кто сказал, что даже в наше время «роман» (я беру его в кавычки, чтобы дать понять, какими неуместными мне кажутся эти слова), самая податливая из всех форм, подходит для использования женщинами? Не сомневаюсь, что когда они обретут свободу, то немедленно приспособят все формы под себя, а то и изобретут новые – и стихи не обязательно останутся стихами. Ведь именно поэзия так и не получила выхода. Тут я задумалась, как бы женщина в наше время написала трагедию в пяти актах. Использовала бы она стихи? Отказалась бы от прозы?