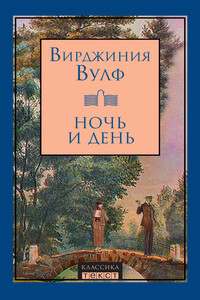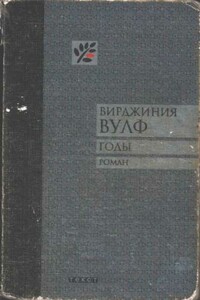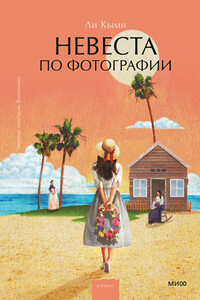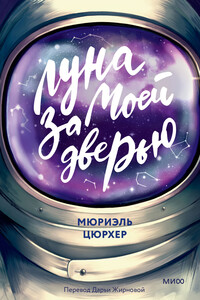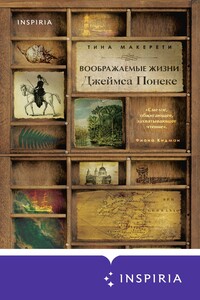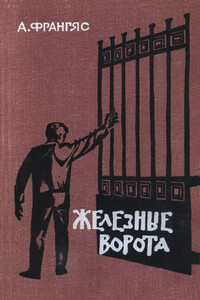Своя комната | страница 20
Удивительно, что ни слова из этих бесконечных томов не принадлежало женщинам – в то время как любой мужчина, судя по всему, способен написать песню или сонет. Так как же жили женщины, спросила я себя; ведь литература подвластна воображению и, в отличие от науки, не существует отдельно, подобно камешку на дороге; литература подобна паутине и так же, как паутина, связана с жизнью – непрочно, но тщательно. Зачастую эта связь почти незаметна: пьесы Шекспира словно бы держатся сами по себе. Но если потянуть паутину, зацепить, надорвать, то вспоминаешь, что ее соткали не бестелесные существа, а живые люди и что она охватывает самые что ни на есть прозаические предметы – здоровье, деньги, наши дома.
Поэтому я отправилась к полке с историческими трудами и открыла одну из последних работ профессора Тревельяна – «Историю Англии». Снова обратилась к разделу «Женщины» и параграфу «Положение женщин». Право мужчин бить своих жен, писал профессор, было закреплено законодательно и открыто применялось как высшим, так и рабочим классом… Аналогично, если дочь отказывалась выходить замуж за выбранного родителями джентльмена, ее могли посадить под замок и подвергнуть побоям – при полном одобрении общественного мнения. Брак был основан не на личной привязанности, а лишь на семейной выгоде, особенно в «благородных» высших классах… Помолвку нередко заключали, когда жених или невеста (или оба) еще лежали в колыбелях, а свадьбу праздновали, как только за ними переставали ходить нянюшки. Здесь профессор Тревельян писал о 1470-х годах – вскоре после чосеровской эпохи.
Следующее упоминание о положении женщин относится ко времени Стюартов – то есть двести лет спустя. В то время, пишет профессор Тревельян, женщины высшего и среднего класса по-прежнему почти никогда не выбирали себе мужей, а когда им назначали супруга, он становился их властелином и победителем – в той мере, в какой это определял закон и обычай. Однако, продолжает профессор, героини пьес Шекспира и женщины, описанные в подлинных мемуарах XVII века (например, Верни и Хатчинсона), были наделены и характером, и индивидуальностью. В самом деле, если вдуматься, Клеопатра – женщина с характером, леди Макбет делала все по-своему, а Розалинда, надо понимать, была очень хороша собой. Профессор Тревельян совершенно прав, говоря, что у героинь Шекспира есть и характер, и индивидуальность. Даже не будучи историком, можно утверждать, что женщины, подобно маякам, освещали творчество поэтов всех времен: у драматургов – Клитемнестра, Антигона, Клеопатра, леди Макбет, Федра, Крессида, Розалинда, Дездемона, герцогиня Мальфи; у прозаиков это были Милламант, Кларисса, Бекки Шарп, Анна Каренина, Эмма Бовари, мадам Германт. С ходу вспоминается множество имен, и все это – героини отнюдь не бесхарактерные или безликие. В самом деле, если бы женщина существовала лишь в книгах, написанных мужчинами, ее бы наделяли огромной важностью, она была бы бесконечно многообразна: отважна и зла, блистательна и убога, великолепна и уродлива, величием сравнима с мужчинами – а то и превосходит их. Но это лишь литература. На деле же, как пишет профессор Тревельян, ее запирали и избивали.