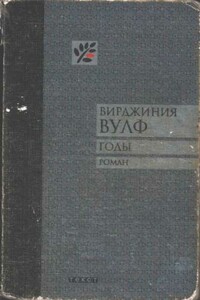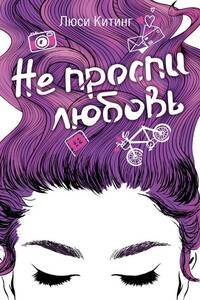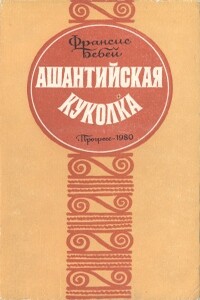Своя комната | страница 18
Но, как я уже говорила, тетка умерла, и всякий раз, как я размениваю десятишиллинговую купюру, ржавчина бледнеет, а страх и горечь отступают. В самом деле, удивительно, думала я, пряча монеты и вспоминая ту горечь, – как поднимает настроение надежный доход. Никакая сила в мире не может забрать мои пять сотен. У меня всегда будут еда, дом и одежда. Позади остался не только тяжелый труд – ненависть и горечь также меня покинули. Зачем ненавидеть мужчин – они больше не могут причинить мне зла. Мне не нужно кому-то из них льстить – им нечего мне дать. Так я исподволь начала по-новому относиться к другой половине человечества. Глупо винить целый класс или целый пол. Обширные группы людей никогда не несут ответственности за свои действия. Ими движут неконтролируемые инстинкты. Каждый из них, будь то патриарх или профессор, сражается с собственными демонами. В некотором смысле их образование так же ущербно, как и мое. В них развились такие же дефекты. Конечно, у них есть деньги и власть, но лишь потому, что внутри у них живет дикий коршун, который вечно рвет им печень и терзает легкие, и имя этому коршуну – жадность. Страсть к обладанию заставляет их отбирать у других земли и имущество, сражаться за границы и флаги, тратить деньги на линкоры и отравляющий газ, отдавать жизни – свои и своих детей. Прогуляйтесь под Адмиралтейской аркой (я как раз до нее дошла) или пройдите по любой другой улице, посвященной трофеям и пушкам, и задумайтесь, что же тут прославляют. Или поглядите, как маклер и барристер под весенним солнышком шагают на работу, где зарабатывают деньги – много, много денег, хотя на самом деле пятисот фунтов в год хватает, чтобы жить и наслаждаться солнышком. Это нездоровые инстинкты, но их порождают условия жизни, недостаток цивилизованности.
Размышляя об этом, я разглядывала статую герцога Кембриджского и перья на его треуголке – едва ли эта статуя когда-либо удостаивалась такого пристального внимания. Страх и горечь постепенно уступали во мне место сочувствию и терпимости; а через пару лет сочувствие и терпимость отступили, и я стала свободна, то есть способна видеть вещи такими, какие они есть. Взять, например, этот дом – нравится он мне или нет? А эта картина? А книга эта хороша или не очень? Тетушкино наследство просто-таки открыло для меня мир. На месте грозного господина, перед которым Мильтон велел преклоняться, оказалось бескрайнее небо.
Предаваясь этим размышлениям, я вернулась в свой дом у реки. Горели фонари, и Лондон неизъяснимо изменился по сравнению с тем, каким он был утром. Словно громадная машина после целого дня труда с нашей помощью породила на свет нечто великолепное – пылающую яркими красками ткань, рыжее чудовище с алыми глазами и горячим дыханием. Даже ветер реял, словно флаг, хлестал дома и трепал афиши.