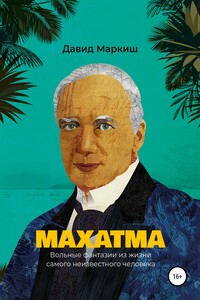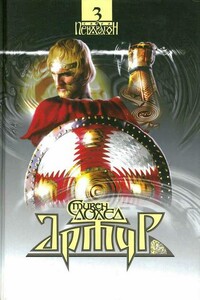Еврей Петра Великого | страница 39
Стража волокла к плахе отбивающегося Ефремку Гагина. Глядя, как его пригибают, гнут, Петр обернулся и поманил Дивьера.
— Держи, Антон, — сказал Петр, передавая ему топор. — Руби! Ну!
Дивьер принял топор, оглядел его сосредоточенно. Можно отказаться, плюнуть, вернуться в Амстердам. Можно размахнуться, опустить топор на плаху. Только один раз. Кто они, эти человечки в черном, что они сделали? Да что б ни сделали — они чужие, не свои. Свои идут в синагогу, кричат там и спорят неизвестно о чем. Тем не стал бы головы рубить, дрогнула бы рука. А эти — русские, чужие, как все здесь чужое. Как та черная голова, что торчала на палке, над воротами, в первый день по приезде. Только один раз! Это ведь русский царь проверяет, испытывает. Если сам он рубит своих, почему ж чужаку не рубить по чужому? Только один раз — и служба, и карьера, и деньги. Крови, что ли, он не видал, Антуан Дивьер, не убивал людей? Так то в бою…
— Ну! — услышал он хриплый Петров голос.
И, попробовав острие топора на ногте, встал за плаху.
Вечером того дня праздновали новоселье Лефорта во дворце его, в Немецкой слободе. Петр много пил, был весел, добр. Обняв хозяина, взял его за уши, приблизил голову к себе, нос к носу, сказал:
— Франц, душа моя, что с тобой? Ты будто с рассвета рук не покладал. У тебя плохой вид! Или болен?
Франсуа Лефорт болел уже с месяц: оловянный вкус во рту, печень, упадок сил. Дворец, сложенный из красного кирпича, с высокими потолками, с мраморными полами, радовал сердечно — но вот пришло письмо из Женевы, и все пошло насмарку. Писал брат, торговец недвижимостью.
«Любезный Франсуа! — не слишком-то горячо писал брат. — Должен опечалить тебя: наша мать тихо скончалась в своем доме и похоронена на городском кладбище, в семейном склепе. Вся наша семья, все братья и сестры, и Жан, и дядя Арнольд присутствовали при погребении…»
Сидя у камина в малой гостиной, кутаясь в плед, Лефорт мучительно вспоминал, кто ж таков этот Жан? Как будто это имело какое-то значение: кто таков Жан. И, так и не вспомнив, огорчился очень.
«Ты уже не молод, Франсуа, — писал далее брат, — ты провел на чужбине почти всю жизнь. Мы знаем, что ты сделал кое-какие сбережения, что русский царь к тебе благоволит и произвел тебя в генерал-адмиралы. Это всех нас несколько удивляет: ведь ты ни в детстве, ни в юности не имел склонности к военным упражнениям и, по твоим же сообщениям, состоял при царе Петре в качестве учителя голландского языка. Как же сделался ты вдруг генерал-адмиралом, если в России, по нашим сведениям, нет моря, а Женева, как ты помнишь, стоит на берегу озера?.. Все это очень беспокоит нашу семью, и некоторые из ее членов считают, что ты стал авантюристом».