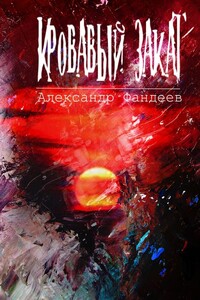Очарованье сатаны | страница 7
Мучаясь бессонницей, усиливавшейся с каждой ночью, Данута-Гадасса выуживала из тьмы своих благодетелей и притеснителей вздорную тетку Стефанию и великодушного свекра Эфраима, своих сыновей Арона и Иакова, сватов Пнину и Гедалье Банквечеров, всех завсегдатаев кладбища, начиная с вечных плакальщиц, которые приходили на похороны, чтобы оплакать не столько других, сколько самих себя, и кончая лавочниками, делавшими смотрительнице кладбища скидку на все без разбору товары за то, что та безвозмездно убирает могилы их родных. Иногда в ее невидимые сети, расставленные строптивой памятью, попадались отец в блестящем мундире лейб-гвардейца и непогрешимая тетка Стефания Скуйбышевская, которая раскладывала каждый вечер перед отходом ко сну свой судьбоносный пасьянс. Данута-Гадасса ссорилась с ними и мирилась, прощала и обвиняла, каялась и признавалась в том, в чем ни разу в жизни не смела признаться ни им, ни себе, — этим призракам, как бы сплетенным из висевших над головой тонких нитей паутины, можно было без колебания поверять все тайны, все то, что так обременяло и терзало душу. Она окликала их по имени, притуливалась к ним в долгие осенние и зимние ночи, стараясь как можно дольше не отпускать их от себя, но, едва на востоке занималась алая полоска зари, они, как по уговору, улетучивались, и в опустевшей избе, пропахшей сыростью и тленом, становилось так тихо, что слышно было, как паук плетет под потолком свою паутину и как попискивает в груди изнуренное сердце — жалобно, словно мышь. В такие долгие, выстуженные отчаянием ночи Данута-Гадасса сама как бы превращалась в бесшумный и бестелесный призрак, который под утро, когда из Юодгиряя от Элишевы возвращался Иаков, снова обретал и плоть, и кровь.
— Это ты, Иаков? — заученно спрашивала она, хотя по-собачьи чуяла его запах еще до того, как сын открывал скрипучую дверь, изъеденную прожорливыми жучками.
— Я… Чего не спишь? Дед говорил, что могильщики и мертвые спят крепче всех. Буди их, не буди — не разбудишь, пока сами не проснутся.
— Мало ли чего старик говорил! Помню, перед смертью он подозвал меня и шепнул: «Умирать не хочется, но уже пора… засиделся…» Не кажется ли тебе, сынок, что и я засиделась?
— Не кажется. Ложись спать.
— Ни разу в жизни не спала днем. Есть что-нибудь будешь?
— Спасибо. Элишева накормила.
Данута-Гадасса только это от него и слышала, когда он возвращался под утро из Юодгиряя: сыт, Элишева накормила. Другой на его месте, тот же сметливый говорун и лгунишка Арон, наплел бы с три короба, сел бы рядом за грубо сколоченный стол, съел бы кусок говядины или выпил бы кружку свежего козьего молока с краюхой душистого ржаного хлеба, чтобы только не расстраивать мать, но Иаков врать и выкручиваться не умел. Его прямота и откровенность ранили не только мать, но и брата Арона, которого Иаков, не чинясь, осуждал за то, что тот променял сноровистую доходную иголку на разбойный пистолет.