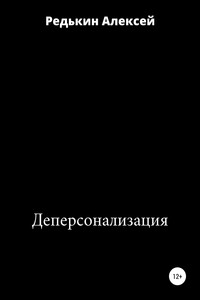Очарованье сатаны | страница 46
После смерти внука реб Гедалье входил в ее комнату почти на цыпочках и всегда с какой-нибудь доброй вестью на устах — придуманной или всамделишной.
— Тебе, Рейзеле, целых три замечательных письма из Москвы! Дай Бог каждой еврейке получать такие письма. Не письма, а пасхальные подарки. Ты только послушай!
Банквечер принимался читать эти письма, как пасхальную агаду, и, пользуясь тем, что Рейзл сама к ним не притрагивалась, «перелицовывал» их, дополнял заимствованиями из баек Хацкеля Брегмана, подслащивал собственными, давно забытыми признаниями в любви и жалобами на разлуку и тоску, всплывавшими из сгустившейся от ила памяти; осторожно снимал с конвертов незнакомые, копеечного достоинства, марки, на которых красовались либо бравый красноармеец в островерхом шлеме, демонстрировавший свою богатырскую силу воображаемому классовому врагу либо стахановка-ткачиха, озарявшая всю планету своим счастьем. Отец раскладывал перед Рейзл глянцевые фотографии (она и к ним не прикасалась, словно там был запечатлен не Арон, а совсем чужой человек) и терпеливо рассказывал, что на них было изображено. На этом снимке, Рейзеле, наш Арончик возле Кремля — того дома, где живет старый друг Мейлаха Блоха и всех трудящихся на свете Сталин; а вот на этом — он в перепоясанной портупеей гимнастерке на Красной площади в очереди к другому дому, где в хрустальном гробу лежит вечно живой Ленин; а тут Арончик в пилотке — на колхозной выставке достижений, смотрит на счастливых коров и доярок в выходных платьях, а на последнем снимке твой благоверный гордо выходит из подземного поезда на остановку, украшенную мраморными колоннами. До чего же, доченька, только люди не додумываются — поезда под землей!
Но Рейзл не интересовали ни Ароновы письма, ни поезда под землей, ни счастливые коровы и разнаряженные доярки, такие же породистые, как и их коровы, ни дом, где жил Сталин, ни обитель, где в хрустальном гробу лежал Ленин. Она сама словно лежала в гробу, не одна — вместе со своим Эфраимом, не успевшим вкусить материнского молока, и все, что происходило за пределами гроба, не имело к ней никакого отношения. Ей хотелось только одного — чтобы не приподнимали крышку и не уговаривали ее вернуться к тому, что было прежде.
Реб Гедалье по ночам не спал — лежал с открытыми глазами в постели, прислушивался к каждому звуку и, как отец Отца, умолял Бога, чтобы Он смилостивился над ним и над его несчастной дочерью. Всевышний, по Своему обыкновению, ничего не обещал, но и в милости не отказывал.