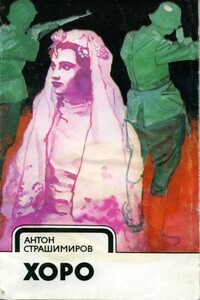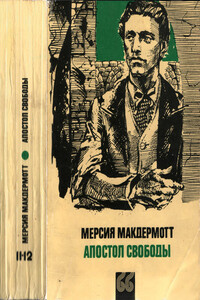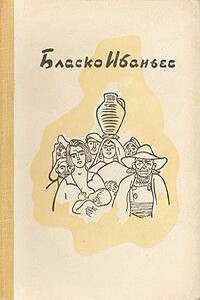Дурман | страница 68
— Говорят, и этот деньги загребает, — наконец-то разбил лед Генчо, — из Пазарджика он. Там у него рисовые поля, много земли…
— А ты что думал? Станет он с беднотой дружбу водить, как же — держи карман шире… — отозвался дед Илю.
— А если ему нужны голоштанники — далеко ходить не надо, все мы у него под носом… — мудро заключил дед Боню и задумчиво повернулся к стойке.
Но больше о Ганчовском не вспоминали. Иван надеялся, что снова начнется прежний разговор, который ему был на руку, но люди жались, виновато посматривая друг на друга, как нашкодившие школяры. До прихода этих двоих Иван попытался было вставить свое слово, но и он теперь не решался начать все сначала. И его озадачило их неожиданное появление. Но рассказ деда Илю крепко засел у него в голове. „Смотри-ка ты… значит, и раньше тоже люди политикой занимались…“ А о женитьбе старика Ганчовского он слышал в первый раз. Иван его едва помнил, видел как-то на одной свадьбе после войны, за два-три месяца до смерти. Тогда Георгий был за границей — на инженера учился. Сразу же после смерти отца вернулся, разделил имущество с братом и уехал в Софию. И там пробыл недолго. Поехал в Варну, там женился и вернулся в деревню. А после Ивану о нем все было досконально известно: Минчо каждый шаг его знал, с кем встречался, куда ходил — оба они друг за другом следили в четыре глаза. До девятого июня 1923 года Ганчовский все в селе торчал. Кочевал из одной деревни в другую — потертые офицерские галифе, потрепанная тужурка — и угощал бывших единомышленников своего отца, из одной их партии. А сам рта не раскрывал. Люди его не любили, но побаивались. Чуяли: этот будет мстить до седьмого колена и средства подбирать не станет. После переворота выбрали его депутатом в Народное собрание, и он восемь лет царил и в селе, и во всей околии. Он поднимал, он сбрасывал, он назначал и увольнял, без его согласия ничего нельзя было сделать. С того времени он и над братом верх взял, хотя тот сначала и упирался, обиженный за несправедливый раздел имущества, но сила Георгия Ганчовского росла, он смирился и стал его правой рукой.
Иван все ждал, не начнут ли снова разговоры о Ганчовском, но в кофейне все замерло, словно живой души не было. Дед Боню задремал, опершись на трость, Генчо ушел с головой в старую газету, Стойчо прислонился к стойке и задумчиво, невидящим взглядом, смотрел на закопченную балку перед собой. Даже дед Илю, который всегда находил, о чем поговорить, и тот молча посасывал трубочку, закутавшись в свою широкую салтамарку.