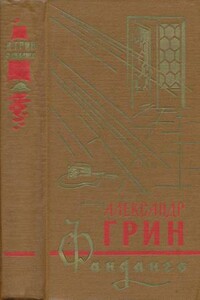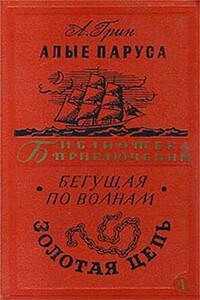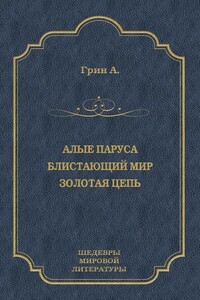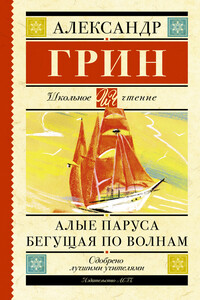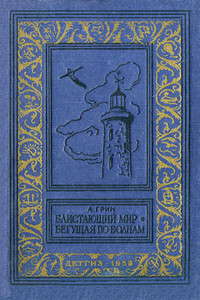Психологические новеллы | страница 11
Вместе с тем, отступая от реалистической полноты, психологический анализ Грина не просто «сужает» поле зрения художника, но и обостряет его до силы лазерного луча, достигая филигранной тонкости психологической отделки.
К сожалению, это искусство проникновения в психологический «микрокосм», в сферу подсознательного, после 20-х годов было почти утрачено нашей литературой. Только в последние десятилетия писатели снова стали возвращаться к мысли о том, что «…мы уступаем кому-то область психологических глубин и подсознания… утонченного анализа», что «мы тоже должны научиться читать едва уловимый шифр человеческой души, и тогда человек станет понятнее нам» (Э. Межелайтис). А не столь давно С. Антонов выступил даже в защиту «подсознания» с резкостью, лишний раз подчеркнувшей, насколько назрела эта художественная проблема: «Персонажу с ампутированным подсознанием все ясно и понятно… Такому герою… неведомо, что обитает он… в бесконечной Вселенной, приводившей в ужас Паскаля, в загадочном, беспредельном, чреватом тайнами пространстве».
Не следует, однако, сводить психологизм Грина только к мерцающей игре бликов подсознания — автор внимательно следит за внутренней логикой развития характера, умело сочетает в нем доминантные и «обертонные» темы, соотносит их звучание с общим ходом сюжета. В героях Грина одновременно борются побуждения к рефлексии и действию, мысль и чувство, твердые этические установки и соблазны инстинктивных влечений. Тем не менее авторские симпатии и антипатии не вызывают сомнений: кружевная резьба «микросостояний», сплошь и рядом сочетающаяся с предельно четким, линейным рисунком общего нравственного облика героя, составляет специфически гриновскую манеру психологического портрета.
Сила и торжество идеала связаны в прозе Грина не с идеализацией героя и уж тем более не с идеализацией действительности (здесь хотелось бы даже употребить странный термин — критический романтизм), а с общей художественной идеей и позицией автора. Грин-романтик любуется теми, кто воплощают его мечту о нравственном совершенстве, но Грин-реалист хорошо знает психологические «бездны» человека, его падения, его неуправляемость, необъяснимость его поступков, тяжкое сочетание добра и зла в его душе (отсюда супружеская измена в «Ксении Турпановой»; смесь униженности и фанфаронства в «Пассажире Пыжикове»; неожиданное мужество Энниока, расплачивающегося за совершенную подлость в рассказе «Жизнь Гнора»; душевные самоистязания Фицроя в «Лошадиной голове» и бесстыдная «диалектика» проповедей Фрэнка Давенанта в «Дороге никуда»…).