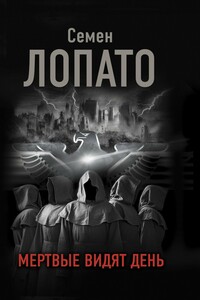Облако | страница 114
«Любимый, хочу признаться тебе в любви.
Я только и говорю, что люблю тебя. Интересно, как ты к этому относишься. Помнишь, раньше я даже боялась тебе это сказать. Я всего боялась. Что будет дальше, как жить, где ты останешься? Сейчас мне спокойно и легко, я знаю, ты меня любишь. И я знаю, что так будет и дальше. Я тебя люблю, и никто другой мне не нужен.
Я люблю тебя. Люблю и кричу, что люблю. Я без тебя не выживу. Я это знаю. Ты моя жизнь, моя судьба, ты – это я. Пусть я плохая хозяйка и бесполезная женщина, но я твоя женщина, и никуда ты от меня не денешься. Не убежишь, не отпущу. Ты один, и ты мой. И умрем мы в один день. Старенькая старушка и старичок. И ты наконец научишься варить кофе, не задавая вопросов, и будешь сам, без вопросов, говорить, как ты меня любишь. Правда? Ведь тебе, может быть, на самом деле все равно, что посуда грязная? А из меня получится достойная тебя женщина, ты ведь подождешь? А про посуду – тебе ведь не все равно? Да? Я знаю. Да!! Когда ты увидишь свой засранный столик, ты скажешь: ну … вашу мать! Когда она научится!!! Любимый, любимый мой! Тебе писали когда-нибудь письма, я такая глупая, что не могу написать приличное письмо любимому человеку. Я люблю тебя, ты моя жизнь, и я знаю, что скоро подарю тебе еще одну, и я так люблю тебя, и мое имя Клепа (только на один день). Ты же простишь своей жене такую шалость.
Твоя любимая женщина,
Марина»
С красными кругами перед глазами, дрожащими руками Вадим отложил письмо. Эти люди, подумал он, эти люди. Они жили здесь, они любили, они вкалывали и вламывались за копейки, они сердцами, глотками, потрохами, печенками рвались к счастью, они зачинали и рожали, они любили и воспитывали своих детей, волновались за них, вскакивали и ходили из угла в угол по комнате, когда тех не было поздно из школы, сидели у их постелей и поили их лекарствами, когда те болели, плакали на их свадьбах и подбрасывали в воздух внуков, они жили, и точно так же живут сейчас – любят, мучаются, рвутся к счастью – люди там, наверху, в городе без неба, они перешивают старые платья, латают прохудившуюся обувь, они продают свои стихи на грязных рынках, они спорят о литературе, думают о вечном, о высоком, из мусора и грязи, из осколков и обломков строят свою жизнь. Что есть твоя жизнь, что было в твоей жизни, кроме погони за деньгами, как смеешь ты, дерьмо, сидеть здесь и рассуждать о возвращении, встань, гнида, головой своей проломи эту засыпь, придумай этой никому не нужной головой, как сделать то, что ты должен сделать, надорви себе кишки, прорвись, пробейся, хоть чем-то, хоть когда-то оправдай свою жалкую жизнь. Встав, с прыгающими перед глазами красными шарами он пошел обратно по вагону, песок, валящийся сверху – мокрый, подумал он, он слипается, не сыпется, он не засыпает пространство под вагонами полностью, если так, то под вагонами, возможно, есть лакуна, попробовать проползти по ней, проползти под вагонами, выбраться в то место, где завал кончился, откуда можно выбраться, откуда можно снова идти. Вытащив из рюкзака саперную лопатку, вернувшись на три вагона назад, открыв дверь, он спрыгнул на дно туннеля; став на колени, забравшись под вагон, он пополз по шпалам, стены туннеля справа и слева скрылись, по обе стороны были откосы из песка, выгибаясь и выгибая голову, фонарем высвечивая путь, раздирая колени, он полз по песчанно-вагонному проходу, просвеченный фонарем полуовал между днищем вагона и песком становился то шире, то уже, увидев впереди, в пятне света завал из песка, он понял, что прополз три вагона и подполз к завалу, в который уткнулся, проходя по вагонам сверху, песок был уже совсем рядом, в луче фонаря прямо у лица плавала мелкая песчаная пыль. Врезавшись в песок саперной лопаткой, он отбрасывал его по сторонам, прорывая ход в вязкой массе, песок из-под дна вагона, сорвавшись, падал вниз, в вырытую пустоту; обдирая локти, перекладывая лопатку из одной руки в другую, извиваясь телом на шпалах, он отбрасывал песок назад вправо и влево, возвращаясь, когда песок облегал его вплотную, он отбрасывал его назад снова, отгребая к ногам, выгрызая конус, расширяя трубу. Рой, думал он, рой и рой, не ссы, не дрожи быть заживо похороненным, над тобой вагон, он не обрушится, песок только справа и слева, вспори его, отбрось, отрой, пробейся, это прорыв, завал очаговый, он из-за рухнувших плит на потолке туннеля, они не могли рухнуть все разом, завал не может быть долгим. Несколько раз вернувшись к началу, он расширил проход, вновь проползя к песчаной массе, он вновь вонзил в нее лопатку. Чувствуя, что движения его стали поднаторелей, что появилась сноровка, он ускорил движения; двигаясь как автомат, перебрасывая лопатку из руки в руку, переворачиваясь туловищем с бока на бок, плюясь песчаной пылью, он двигался вперед. Как здорово, подумал он, как весело так копать. Как мне нравится это делать. Вот так. Вот так. И вот так. «Ты хорошо роешь, старый крот». Вперед. Вперед. Вперед и вперед. Облако, подумал он, я уничтожу тебя. Я разломаю себе башку, разорву жилы, но я уничтожу тебя, тебя, гадину, которая не дает людям жить, тупо, гнусно не дает жить, я сделаю это ради того, чтобы женщины могли покупать себе чертовы туфли, чтобы тот парень, что сделал автомобильчик для своего малыша, и такие, как он, могли покупать себе нормальные автомобили. Лопатка прорушилась в пустоту; расчистив проход, подтянувшись, перевернувшись набок, он посветил фонарем вперед, в пустоту, пятно света упало на шпалы. Проползя через проход, видя, что вокруг нет песка, он выбрался из-под вагона, еще вагоны тянулись впереди, пройдя вдоль них, обойдя последний, он увидел впереди туннель. Все тот же туннель, с линиями фонарей справа и слева по бокам, уходил вперед тускло и прямо. Постояв чуть-чуть, прислонившись к вагону, он пошел назад, залез под вагон и пополз обратно. Выбравшись, пройдя обратный путь наверху, он толкнул последнюю из дверей межвагонных муфт, прошел через вагон и подошел к Ратмиру.