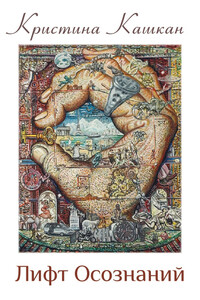Ночное дежурство доктора Кузнецова | страница 3
События тех двенадцати часов, о которых я хочу рассказать, стали единственными в моей долгой жизни, не имеющими достоверного объяснения.
Я взрослел, потом старел, образ моих мыслей менялся, менялся мир вокруг меня, подвергались разным трансформациям и те двенадцать часов. Они были сначала близкими, потом отдалились, потом стали почти неразличимы и постепенно превратились в сказку. В страшную сказку. А если хорошо подумать, то поймёшь, что жизнь многих и многих поколений в России и есть страшная сказка, которую никогда не понять среднему европейцу с его вялым восприятием мира, осторожностью, трепетным отношением к своей собственной жизни и убогой религиозностью. Страх всегда тащил нас вперёд, он же отбрасывал назад, но всегда был в крови нашей, в поступках наших, в молитвах наших. И сейчас, надменно считая себя выше скучной Европы и жирной Америки, мы не избавились от него. Страх питают, из него же странным парадоксом произрастая, вечное русское теперь уже наивное богоискательство и такая же вечная идея русского мессианства. Ни богоискательство, ни русская идея не уничтожат этот страх, потому что подобное не уничтожается подобным. И не лечится, вопреки расхожему присловью, бытовавшему как аксиома в нецивилизованные времена.
Но возвращаюсь к своему повествованию, в год 1974.
Я что-то запозднился в тот вечер, готовя давно обещанный своему куратору реферат. Почти все уже ушли, больные разбрелись по палатам смотреть телевизор, а дежурная уборщица с приклеенной к лицу улыбкой на случай неожиданной встречи с пациентом, тёрла в коридоре идеально чистый паркет. Собственно, и я собирался уходить, как вдруг в ординаторскую заглянул Розенталь.
— Борис Васильевич, вы один? — почему-то испуганно озираясь, вопросил он. Розенталь всегда именно вопрошал, а не спрашивал, понять в чём тут тонкость я не мог, хотя и не особо задумывался об этом.
— Да, Леонид Викторович, — ответил я, втискивая толстую папку с рефератом в портфель. — Все ушли. Только Алексей Игнатьевич ещё здесь, он у себя.
— Это хорошо, что все ушли, а Вольский у себя, — как-то растерянно произнёс профессор, входя. Был он сухощав, подтянут, с редкими желтовато-белыми волосами, стекающими к оттопыренным ушам. Высокий лоб, утыканный крупными старческими пигментациями, блестел натянутой кожей, а прямой нос, нагруженный богатыми, кажется, золотыми и старинными очками, совсем не казался еврейским. — Да, все ушли.… Так вы один? — ни к селу, ни к городу повторил он.