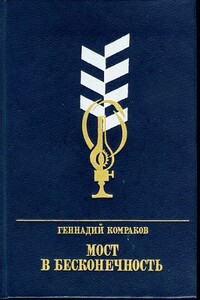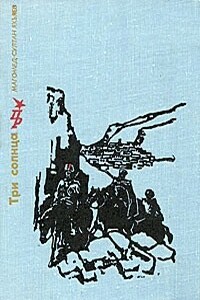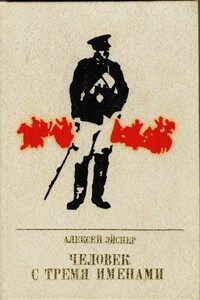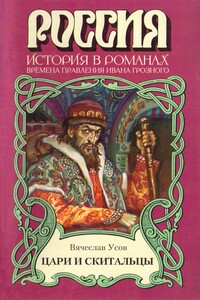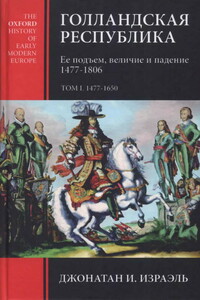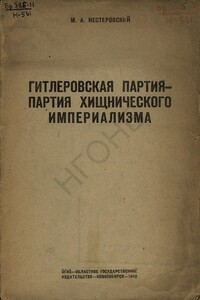Огненное предзимье | страница 38
Рабство, духовное холопство серым туманцем расползлось по русской земле, и именно крестьяне, а не казнимые бояре первыми пострадали от него. Впервые их закрепостили наглухо при сыне Грозного царя. Мужицкий мир, поддержанный казацким, ответил Смутой. К любому самозванцу приставали, только бы досадить властям. А в отреченных книгах было предсказано, что рабство опасней для страны, чем несогласие. Иные из духовных давно советовали землю раздать крестьянам и брать налоги с них — на жалованье воинскому чину. Дворяне и цари на то не согласились.
Но отчего дворяне всегда вершили, что хотели?
У них — боевая сила. Страдник не может сладить с ними. Он — мирный по своему труду и жизни. Так будет вечно — у кого сабля, того и право, и земля.
Лысковский поп Иван не соглашался с этим. Он мимоходом заронил одну мысль, а после Максим с любовью и надеждой обтесывал и оскабливал ее, как обрабатывают мужики главную поперечину к воротам.
Трудное воинское дело требует выучки и изменения самой жизни. Того же мужика возьми в солдаты, он скоро навыкнет воевать. Которые крестьяне бежали на Дон и в Запороги, те стали драться не хуже своих господ. Вот оно — самое святое для крестьянина, не вынесшего рабской жизни: уход в казаки.
А дальше что? Оборонять границу, чтобы самим дворянам не пачкать рук с татарами?
Когда после такого разговора Максим стал спрашивать попа Ивана о Смуте, тот строго оборвал:
— Знаю, куда ты гнешь. Держи-ка при себе. Дон — сила, только ему с Москвой не справиться.
Максим смутился. Вздумалось, что навыкший воевать казак сможет однажды воротиться и посчитаться… хоть с Корнилом Шанским! Он вдруг увидел себя на вороном коне, с донской пищалью, а перед пищальным дулом крутится постаревший Корнил. Но Максиму все одно не жаль убить его.
— Мысли-ка лучше о духовном, — советовали Максиму и отец Иван, и доброжелатели из иноков. — Примешь постриг да станешь книжным человеком. В тебе старание и разум живой светится.
Возможно, и постригся бы Максим. Стены монастырей укрывали многих беглых, если они покорно принимали устав. И отреченные книги манили Максима, и родину, и маменьку с отцом жаль было покидать. Жил бы в Исадах — в тайне, в тихости.
Но перед рождеством в Исады прибыл архимандрит Пахомий.
Некто послал ему двойной донос — о потаенной казне Исад и об опасных разговорах, заводимых ветлужским попом Григорием Яковлевым. Проверка была крутой и скорой. По представлению Пахомия, Яковлев был «лишен первенства» и выслан обратно в Баки, на Ветлугу, замаливать грехи. Узрев Максима, Пахомий не поверил старцам, что тот — из вольных, а обещал устроить дознание, как только разберется с деньгами.