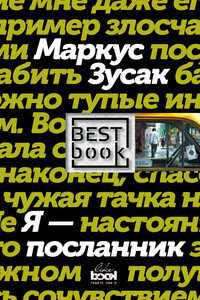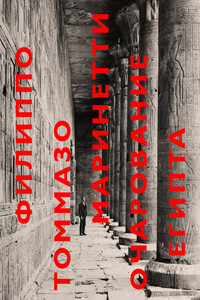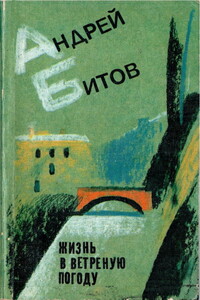Глиняный мост | страница 67
Что до Убийцы, то в детстве он хотел стать машинисткой, как его мать. Она работала у единственного в городе доктора, день за днем стуча по клавишам в приемной на стареньком серо-стальном «Ремингтоне». Иногда она брала машинку домой, чтобы печатать письма, и тогда просила сына донести. «Ну-ка, покажи, какие у тебя мускулы, – говорила она тогда. – Можешь дотащить эту развалюху?» Мальчик с улыбкой подхватывал «Ремингтон».
Очки у нее были секретарские, в красной оправе.
А тело за машинкой – пышным.
Мать говорила строгим голосом и носила хрустящие крахмальные воротнички. Вокруг нее сидели пациенты: со своим потом и шляпами, потом и платьями в цветочек, потом и сопливыми детишками; они сидели, обнимая свой пот. И слушали джебы и левые хуки Адель Данбар, загонявшей в угол свою машинку. Пациент за пациентом, выходил в приемную старый доктор Вайнраух, похожий на фермера с вилами с картины «Американская готика», всякий раз окидывал очередь взглядом.
– Адель, кто следующий в разрубочную?
По привычке она заглядывала в блокнот.
– Миссис Элдер.
И кто бы ни был этот следующий – хромая старуха с зобом, водянистый от пива старик с маринованной печенью или ребенок с содранными коленками и загадочной сыпью под штанами, – каждый поднимался и хотел в кабинет, все несли свои разнообразные жалобы… и среди них играл на полу несмышленый сын секретарши. На вытертом ковре он строил башни, проглатывал бесчисленные комиксы с их злодействами, суматохой и потрясениями. Он забывал злобные гримасы конопатых школьных мучителей и запускал звездолеты по приемной: гигантской миниатюрной Солнечной системе в гигантском миниатюрном городе.
Город назывался Фезертон[18], хотя на птицу походил не больше любого другого. Конечно, поскольку жили они на Миллер-стрит, у реки, его комнату часто – по крайней мере, в дождь – наполняли звук хлопающих крыльев, птичий гвалт и хохот. В полдень на дорогу прилетали вороны клевать сбитых животных, отскакивая от проезжавших фургонов. Под вечер верещали какаду – черноглазые, желтоголовые, белые в слепящем небе.
В общем, птицы птицами, а известен Фезертон был другим.
Это было место, где много ферм и скота.
Несколько глубоких нор-шахт.
Ну а больше всего город был известен пожарами.
Это был город, где выли сирены и мужчины разного звания – а иногда и женщины – облачались в оранжевые комбинезоны и уходили в огонь. Как правило, оставив ободранный и застывший в черноте пейзаж, они все возвращались, но бывало так, если пожар ревел чуть дольше обычного, уходило тридцать с лишним, а обратно брели двадцать восемь или двадцать девять: все с печальным взглядом, раздираемые беззвучным кашлем. Вот тогда мальчики и девочки с худенькими ручонками и ножонками и старыми лицами слышали: «Прости, сынок» или «Прости, малышка».