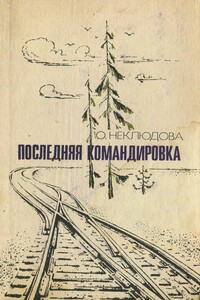Жизнь А.Г. | страница 49
Но спуск на дно преисподней еще не был полностью завершен. То была только прихожая – подлинная геенна со всеми ее огненными радостями ждала его впереди.
В начале апреля, во время турне по северу Андалусии, в работе передвижного музея “Аугусто Авельянеда” произошли важные перемены. Если раньше диктатора выставляли на публику только днем, а вечером увозили в тюрьму, под защиту стен одиночной камеры (хоть и доступной оку неусыпного часового, но всё же дарившей узнику хрупкое подобие покоя), то теперь его пребывание в клетке – и на площади соответственно – сделали постоянным. Сделали, по заверению властей, для его же блага: тюрьмы были полны ожидающих суда красных экстремистов, у которых к создателю “Торквемады” накопилось немало щекотливых вопросов, и ночевку в местных calabozo сочли небезопасной. В действительности же, как открыто говорили почти все вокруг, это было плодом извращенной изобретательности Паскуаля, который из кожи вон лез, стараясь угодить капризной, стремительно охладевающей к нему толпе.
В Кордове диктатора при большом стечении горожан пересадили в новую, более просторную клетку. По своему убранству она представляла обычную тюремную камеру с узкой койкой, намертво прикрученной к дощатому полу, простым деревянным столом, табуретом и сосудом для отправления естественных нужд. Никаких ширм, а наипаче занавесей к клетке не прилагалось – унижение должно было быть полным, неразбавленным, его надлежало пить большими, мужественными глотками, не требуя для себя ни снисхождения, ни поблажки. На смену “доджу” пришел более вместительный “паккард” испанской сборки: рабочие барселонского автомобильного завода оставили на внутренней стенке фургона неприличную надпись, от души поздравив диктатора с новосельем.
Отныне вся его жизнь становилась прозрачной, доступной взгляду сутки напролет. Авельянеда не мог есть, ибо теперь целое полчище зубоскалов, распялив похабные рты, сопровождало гнусными комментариями каждую проглоченную им ложку, каждый кусок хлеба так, словно не было в мире зрелища более уморительного, чем обедающий диктатор, который – поди ж ты! – тоже нуждается в пище. Авельянеда не мог спать, ибо ни ночная смена карабинеров, ни пара ватных затычек, ни даже подушка – тяжелый, груженый конским волосом урод, водружаемый на голову в тщетной надежде спрятаться, заслониться, – не могли уберечь узника от тысячи звуков, от мириада шорохов и шевелений, контрабандой проникающих ему в мозг, равно как и от наплыва весельчаков, охотно жертвовавших собственным сном, чтобы отнять сон у него. Но ужаснее всего была необходимость испражняться публично. Если раньше Авельянеда терпел до вечера, чтобы освободиться от бремени в тюрьме, то теперь тянуть было бесполезно, поскольку даже в глухую ненастную ночь находились те, кто, сгорая от скотского любопытства, норовил за ним подглядеть. На него устраивали настоящие ночные облавы, и некоторые из них, увы, достигали своей низменной цели. Едва, дождавшись заветного часа, он спускал штаны (тут еще следовала некоторая заминка, череда настороженных вслушиваний и вглядываний в обманчивую тишину площади) и, раскорячившись, присаживался на судно, как вдруг из темноты являлась компания с гитарами и фонарями и встречала его потуги взрывом ликующих голосов. Приходилось быть начеку. Упреждая облаву, Авельянеда старался делать это очень быстро, как альпинист на сорокаградусном морозе в горах, но иногда возникали затруднения. Негодяи этим пользовались. Они выгадывали момент, когда дело, после некоторой проволочки, шло на лад, и, грянув из-за укрытия, обрушивали на седовласого niño потоки самого утонченного остроумия, а не то делали ставки, гадая, каких рекордов сегодня сподобится скупое диктаторское нутро. Карабинеры на первых порах пытались отваживать шутников, но вскоре сдались – слишком уж часто случались такие набеги.