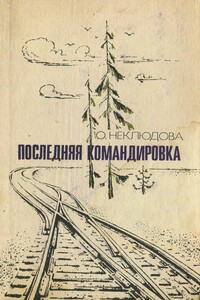Жизнь А.Г. | страница 48
Власти Витории ввели временный запрет на въезд в центр города грузовых машин, и на площадь клетку доставляли в повозке, запряженной тремя холощеными ослами. Виторийцы осыпали диктатора фасолью и рисом, “дарами кроткой басконской земли, вновь приветствующей своего титулованного врага”.
Нарастая подобно приливу, эта эпопея глумления достигла своего apogeo в Барселоне, где отцы города, не пожелав, по их собственному выражению, вторично осквернять священную каталонскую землю, нашли весьма остроумный способ предъявить узника толпе. Клетку поставили на открытую платформу трамвая и целый день возили по Гран-Виа-Диагональ и сопредельным улицам, взятым под усиленную полицейскую охрану. Горожане вскидывали руку в испанском приветствии и кричали “Вива!”, пародируя его торжественный въезд в Барселону десятилетней давности, когда черногвардейцы согнали их на проспект для демонстрации каудильо верноподданнического восторга. Трамвай весело трезвонил на поворотах, толпа дружно ухала в ответ, и отовсюду – с тротуаров, из окон, с балконов и крыш в клетку летели финики и монеты, плевки и апельсиновая кожура, грязные носки и куриные кости – многошумный праздничный ливень, барабанивший по решетке как бы в память о тех временах, когда точно так же, стуча и шлепая по стеклу, в его темно-синюю “испано-сюизу” летели цветы и надушенные дамские подвязки…
“Гастролирующий тиран” – так его прозвали газетчики – стал отныне развлечением для толпы. Его чучела больше не вешали и не сжигали, им устраивали потешные свадьбы, на которых невестой была молодая откормленная свинья, а посаженым отцом – старый бородатый козел в цилиндре и концертном костюме с муаровыми лацканами. Ему предлагали выйти из клетки, ведь он же такой великий, пусть прикажет своим верным вассалам (разумелись карабинеры), чтобы выпустили его погулять. С ним держались запанибрата, в клетку швыряли медяки и стекляшки с криками: “Эй, малыш! Спляши румбу, ну чего тебе стоит!” Его фигурками – комичной, преувеличенной толщины – украшали двери и вывески мясных лавок, а в булочных выпекали маленького сдобного каудильо по двадцать сентимо за штуку, эти плюшки шли нарасхват, так же, как и подметки с его тисненым портретом.
Впрочем, изменилось не только отношение к Авельянеде – изменился сам испанский народ. Та первая ненависть – ненависть голодных – придавала им благородства, теперь же его окружал отъявленный сброд, площадная чернь самого последнего разбора. От этих гуннов, упивающихся своей властью над пленником, нечего было ждать спасения. Авельянеда не знал, что по ненависти можно тосковать. От ярости, от гнева еще можно было перекинуть мостик назад к любви, вспять к обожествлению и восторгу, но от глумления – никогда. Народ ни за что не склонится перед тем, на кого хоть раз легла тень его обезьяньей усмешки.