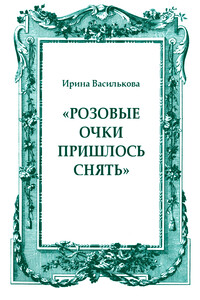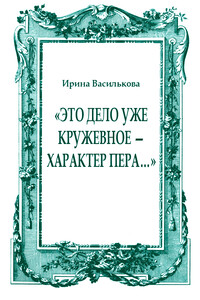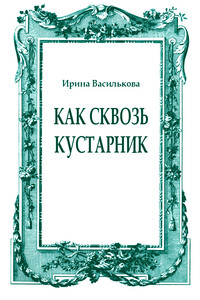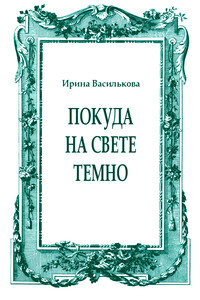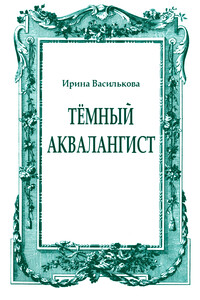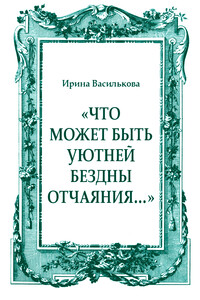Миф как миф (о книге Ирины Ермаковой) | страница 4
Четвертая глава — «Световорот», любимый ермаковский образ, нарастание темы света с многочисленными вариациями, но начинается она неожиданно. Катится по свету голова — оторванная, но живая — «лишь бы не заплывала телом опять душа». Цитата, отсылающая к Гоголю, слишком афористична для столь фантасмагорического стихотворения, но — маркер. Дальше — свет, свободно текущий сквозь щели, сквозь щемящие подробности жизни: «Световой завой. 58-й. Подмосковье / Миф как миф. Прочти его еще раз». Больничный лифт на небо — и привет от М. Кузмина («Я всегда была счастливее всех в Египте»). Египетский бог Тот — луч, распоровший тьму, сотворивший письменность и культуру. Сахалин — трудный подъём на скрипучей канатке, чтобы увидеть океан с самой верхней точки. Световорот на Русском острове. И завершение — над головой легкий веселящий дух крутит огненную восьмёрку. «Что б там ни было впереди, / Не печалься — лети».
В пятой главе — «Пролётом» — всё, конечно, о том, что «все мы тут из пустоты в пустоту пролётом». Главный вопрос — как с этим жить, и что от нас остаётся. Это глава целиком о творчестве, об искусстве, о «порочной нежности к жаркой красной глине». Ars poetica, а из-под клавиш рвётся «световая пила». Всё те же маркеры: «Свет горит — как любить любых», «а всех обиженных, Бог мой, прости, / высокой водой накрывая Шар». И в конце — удивление выходящей из воды «счастливой И»: «непонятно чего на земле так звенит».
Шестая глава так и называется: «И». Первая буква собственного имени. Здесь всё земное, совсем земное, природное. Не без иронии — то полный намёков разговор с дачным соседом на фоне бузинного соловья, то срубленная, но вечно лепечущая липка, то горькая рябина из песни («словно в этой рябине назло счастливой — вся великая русская литература / (с бесполезной женской инициативой)». Женская тема задета лишь по касательной, но всё же «Инь», панически бегущая от прожигающего света, стоящего «с косым копьем луча наперевес» — весьма интересный поворот сюжета. И уже совершенно естественным кажется появление старой знакомой, героини предыдущей книги Ермаковой — это Ёко, «самурай-бабочка в радужном платье». У неё здесь свое предназначение:
И кончается глава повисшей на листе каплей, фокусом моментального луча, выжигающим все «недо-уменья / недо-разуменья».