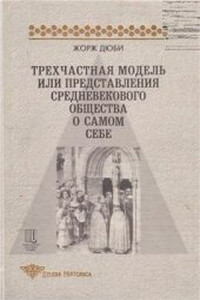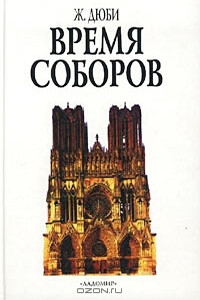Развитие Исторических исследований во Франции после 1950 года | страница 5
Следует отметить, что наше предложение сразу же вызвало интерес: французские историки были готовы к нему. Потребность в чем-то подобном ощущалась давно. Я гордился нашей инициативой, но был тем не менее сильно изумлен, когда Шарль Самаран, директор Французских архивов, представитель Школы хартий — наиболее консервативного и враждебного духу «Анналов» направления, последователь позитивизма, в 1958 г. обратился ко мне с предложением написать для энциклопедического сборника «Историческая наука и ее методы» статью об истории ментальностей. Это означало нашу победу во Франции. В Италии, всегда принимавшей с интересом идеи, исходившие от группы «Анналов», мы получили признание очень быстро. В Германии, однако, долго сопротивлялись новому направлению; значительная часть англосаксонских историков также восприняла его сдержанно, многие из них и сегодня не изменили своего отношения. Тем не менее ценность нашей постановки вопроса была признана и «освящена» 20 лет тому назад на состоявшемся в Риме международном коллоквиуме по методологии истории.
Очень быстрое признание французскими историками понятия «ментальность» объясняется, на мой взгляд, двумя благоприятными обстоятельствами. Прежде всего, большой популярностью психоанализа, который вошел в моду во Франции как раз в это время, в 50-е годы, лет десять спустя достиг апогея (падение же интереса к нему началось лишь в конце 70-х годов). Психоанализ оказал воздействие на весь комплекс наук о человеке. Не следует забывать, что Жак Лакан, самый известный из французских теоретиков психоанализа, чьи семинары в Высшей педагогической школе (Ecole Normale Superieure) привлекали не только снобов, но и значительное количество молодых исследователей, был тесно связан через Р. Якобсона с лингвистикой, а через К. Леви-Строса — с социальной антропологией.
Психоанализ легче всего усваивался молодыми, бурно развивавшимися гуманитарными науками: лингвистикой, антропологией, семиотикой, которые как раз в это время были предметом увлечения парижской интеллигенции. И хотя поначалу ни я, ни Мандру не были подвержены ни малейшему влиянию психоанализа, я думаю, что в значительной степени благодаря ему было столь одобрительно встречено наше предложение изучать в качестве фактора социальной истории ту совокупность полубессознательных проявлений, которой мы дали название «ментальность».
Но главной причиной популярности нашего подхода было, видимо, разочарование в возможностях экономической истории; ученые все больше отказывались объяснять историю общества и цивилизаций, предшествовавших XVIII в., ее зависимостью от экономики. Последняя представлялась нам важнейшим, но не все определяющим фактором. В истории ментальностей мы видели необходимое дополнение к изучению социальной истории через ее материальную подоснову. Таким образом, в нашей идее истории ментальностей я сегодня вижу один из первых, если не самый первый признак того большого поворота в ориентации французской исторической науки, который в полную силу определился в 60-х годах. Об этой важнейшей перемене я хотел бы сказать подробнее.