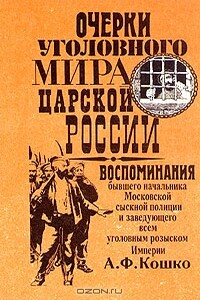Тайны и герои Века | страница 39
Уральское общество оставило мне впечатление чего-то мощного, самобытного, непреклонного. Ясно проявлялся свободный характер уральского населения, никогда не знавшего крепостного права. Это наложило отпечаток независимости, стремление к вольному труду и к культурному развитию при своеобразной верности добрым началам старины. Здоровый консерватизм они не утрачивали даже при усвоении европейского просвещения. Это придавало свой особый стиль быта. Если бы не трагедия большевизма, можно было бы ожидать от уральского населения быстрого органического роста, благотворных результатов которого даже трудно было бы сейчас предвидеть.
В 1914 году по окончании мобилизации мы переехали в Петербург. Молодежь вся была на фронте, военные действия уже начались, и война с самого начала приняла грозный характер. Мои два двоюродных брата, стрелки, пропали без вести под Опатовым, и только через два месяца родители их узнали, что младший, Дмитрий, убит, а старший, Иван, тяжело раненный, в плену у немцев.
Это дало мне мысль поступить в Бюро военнопленных для розысков пропавших без вести и раненых воинов. Бюро помещалось в музее Александра III, в правом крыле его. Туда же впоследствии, но этажом выше, перевели военную цензуру. Со мной на справках работали еще несколько дам и барышень. Я выбрала часы от двух до шести часов. Вечером и утром посещала клинику Великой княгини Елены Павловны, где слушала лекции для сестер милосердия и делала стаж. Получив диплом военной сестры, я решила поступить в частный лазарет поближе к музею, чтобы не терять времени на проезды. Мне указали на лазарет Юсупова на Литейном, недалеко от Троицкой улицы, где мы жили. Я решила работать в солдатском отделении, т. к. ухаживать за офицерами, и, может быть, знакомыми, меня стесняло. И так я отправилась в лазарет Юсупова в его роскошном особняке. Ко мне вышла старшая сестра, пожилая дама, не помню теперь ее фамилии, и заявила, что действительно они ищут сестру в офицерское отделение и я вполне подхожу и могу сейчас же к ним поступить. Такое предложение меня не устраивало, но я не успела объяснить причины своего отказа, т. к. послышался какой-то шум, и сестра поспешно направилась к двери, сказав мне: «Извините, я на минутку должна отлучиться проводить их высочества, которые навещают раненых». Я тоже вышла за ней в переднюю и вижу: по широкой мраморной лестнице спускается Ирина Александровна, дочь Великой княгини Ксении Александровны, жена князя Юсупова. Одета не то в монашеский светлый наряд, не то в костюм сестры милосердия, что-то среднее, напоминающее форму костюма Великой княгини Елизаветы Федоровны (костюм, который носят в ее обществе Марфо-Мариинской обители). И манера говорить та же, т. е. шепотом. Этот беспричинный шепот меня поразил и у Великой княгини, когда мы вошли на царский пароход при встрече ее в Перми. Точно в церкви или у постели тяжелобольного. Как это должно стеснять пожилых глуховатых людей ее свиты. Переспрашивать не полагается, и остается отвечать наудачу и, вероятно, невпопад. Впрочем, она не всегда шепчется, но при передвижении непременно. Но Великая княгиня что-то вроде светской монахини, пожилая женщина, замаливает свои или чужие грехи, и шепот, вероятно, соответствует ее молитвенному настроению. Но почему Ирина Александровна, княгиня Юсупова, интересная светская женщина, приняла эту манеру говорить, неизвестно! В передней нет ни раненых, ни больных. Только у лестницы расхаживал сам Феликс Юсупов и что-то говорил. Он далеко не шептался, но скандировал слова, как человек, привыкший говорить более на иностранном языке, чем по-русски. В модном иллюстрированном журнале «Столица и усадьба» я видела его фотографию. Он изображен сидящим за письменным столом, лицо очень красивое, задумчивое. Производил впечатление стройного высокого человека. На самом деле он среднего роста, скорее худой, и ничего задумчивого, скажу даже, ничего особенно красивого. Но оба, кажется, были очень любезные, взглянули вопросительно в мою сторону, и я испугалась, что старшая сестра объяснит причину моего прихода. Тем более я не собиралась оставаться. При первом благоприятном случае я незаметно ускользнула и решила принять предложение поступить в Таврический лазарет, находившийся гораздо дальше, но зато только для солдат. Этот лазарет был громадный, в пять этажей, отлично оборудован, так что большевики впоследствии из него сделали постоянную больницу. Я в Таврическом лазарете так же, как в Бюро военнопленных, работала до своего замужества, т. е. до 3 февраля 1916 г.