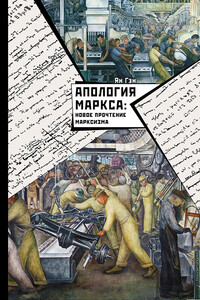Санкт-Петербургские вечера | страница 32
> Непостижимое соединение двух разнородных и несовместимых сил, уродливый кентавр, — человек чувствует, что сам он есть следствие какого-то неведомого злодеяния, какого-то омерзительного смешения, осквернившего его существо до самых глубин. Всякий дух есть по природе своей результат, вместе тройственный и единый, восприятия, которое схватывает, рассудка, который утверждает, и воли, которая действует. Первые две способности лишь ослаблены в человеке, последняя же — сломлена;' она подобна змее уТассо,>(2) которая «ползет за своим хвостом»,>19>>20 страдая от собственного позорного бессилия. Именно в этой, третьей, способности и чувствует человек смертельную рану. Он не знает, чего хочет; он не хочет того, чего хочет; он хочет того, чего не хочет; он хотел бы хотеть. Он обнаруживает в себе нечто чуждое и более сильное, чем он сам. Мудрец сопротивляется и восклицает: «Кто избавит меня?»>21> Безумец покоряется, зовет свое малодушие счастьем, но и он не может избавиться от другой, неиспорченной в своей основе воли, — и угрызения совести, пронзающие его сердце, вопиют к нему: «Делая то, чего не хочешь, ты соглашаешься с законом».>22> И кто же поверит, что человек мог выйти из рук Творца в таком виде? Самая эта мысль возмущает настолько, что уже одна философия — я разумею, философия языческая — открыла первородный грех. Не говорил ли старый Тимей из Локр>(7) (и наверняка вслед за своим учителем, Пифагором),>(8) что «пороки наши происходят не столько от нас самих, сколько от отцов наших и тех стихий, из которых мы состоим»? Не сказал ли Платон, что «следует винить скорее порождающее, нежели порожденное»? И не прибавил ли он в другом месте, что Господь, Бог богов,>23> узрев, как подчиненные размножению существа утратили (или разрушили в самих себе) «бесценный дар, решил подвергнуть их лечению, способному разом и возрождать, и наказывать»?>3 И Цицерон нисколько не удалялся от мнений тех философов и посвященных в таинства, которые полагали, что «мы живем в этом мире для того, чтобы искупить некое злодеяние, совершенное в мире ином». Он даже где-то цитирует сравнение Аристотеля, которого созерцание человеческой природы навело на мысль о страшных муках несчастного, привязанного к трупу и обреченного разлагаться вместе с ним. В другом месте он ясно говорит, что «природа обошлась с нами скорее как мачеха, а не как мать, и что божественный дух в нас как бы заглушен полученной от природы склонностью ко всевозможным порокам».
Книги, похожие на Санкт-Петербургские вечера