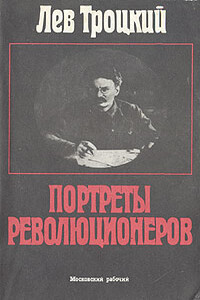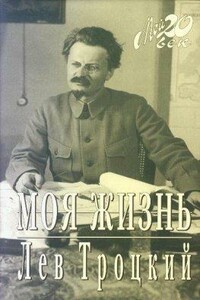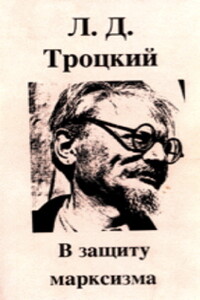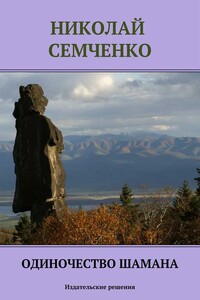Туда и обратно | страница 40
Никифор объяснил мне, что их зырянские олени хитрые, и что сколько он, Никифор, ни ездил, никогда не отпускал их кормиться вольно, а всегда кормил на привязи. Отпустить оленя легко, – а если потом не поймаешь? Но остяк держался других взглядов и решил отпустить своих оленей на честное слово. Такое благородство подкупало, но я с сомнением всматривался в оленьи морды. Что, если им покажется более привлекательным тот мох, который растёт в окрестностях оурвинского чума? Это было бы поистине печально. Впрочем, прежде чем отпустить оленей на чисто моральных основаниях, ямщики срубили две высокие сосны и разрубили их на семь брёвен, аршина полтора каждое. Бревна эти были в качестве сдерживающего начала подвешены на шею каждому оленю в отдельности. Надо надеяться, что эти брелоки не окажутся слишком лёгкими…
Отпустив оленей, Никифор нарубил дров, обтоптал вблизи дороги круг в снегу и разложил в углублении костёр, а вокруг него настлал еловых ветвей и устроил помост для сиденья. На двух сырых ветках, воткнутых в снег, мы повесили два котелка и набивали их снегом, по мере того, как он таял… Чаепитие у костра на февральском снегу показалось бы мне, вероятно, гораздо менее привлекательным, если бы хватил мороз градусов в 40–50. Но небо удивительно покровительствовало мне: стояла тихая и теплая погода.
Боясь проспать, я не лёг вместе с ямщиками. Около двух часов просидел я у костра, поддерживая в нём огонь и записывая при его мерцающем свете свои путевые впечатления.
Чуть свет я разбудил ямщиков. Оленей поймали без всяких затруднений. Пока их привели и запрягли, стало совсем светло, и всё приняло совершенно прозаический вид. Сосны уменьшились в объеме. Березы не мчались нам навстречу. У остяка был заспанный вид, и мои ночные подозрения рассеялись, как дым. Заодно я вспомнил, что в древнем револьвере, который я добыл перед отъездом, только два патрона, и что меня убедительно просили не стрелять из него во избежание несчастных случаев. Револьвер так и остался в саквояже.
Пошёл сплошной лес: сосна, ель, берёза, могучая лиственница, кедр, а над рекой – тал и гибкий чернотал. Дорога хороша. Олени бегут ровно, но без резвости. На передних нартах остяк понурил голову и поёт свою унылую песню, в которой только четыре ноты.
Может быть он вспоминает старую мочальную веревку, на которой повесилась его вторая жена. Лес, лес… Однообразный на неизмеримом пространстве и в то же время бесконечно разнообразный в своих внутренних сочетаниях. Вот через всю дорогу перекинулась подгнившая сосна. Огромная, она во всю длину покрыта снежным саваном, который нависает над нашими головами. А вот здесь, очевидно, прошлой осенью горел лес. Сухие прямые стволы без коры и без ветвей стоят как бессмысленно натыканные телеграфные столбы или как неокрылённые парусами мачты замёрзшей гавани. Несколько вёрст мы ищем пожарищем. Потом пошла сплошная ель, ветвистая, тёмная, частая. Старые гиганты теснят друг друга, вершины их смыкаются в высоте и не дают доступа солнечным лучам. Ветви затканы какими-то зелёными нитями, точно покрыты грубой паутиной. И олени и люди становятся меньше среди этих вековых елей. Потом дерево сразу пошло мельче и на снежную поляну рассыпным строем выбежали сотни молодых ёлок и застыли в равном расстоянии друг от друга. Вдруг за поворотом дороги наш поезд едва не наскочил на маленькие нарты с дровами, запряженные тремя собаками и девочкой-остячкой. Сбоку шел мальчик лет пяти. Очень красивые дети. У остяков, как я заметил, вообще нередки миловидные дети. Но отчего же так безобразны взрослые?