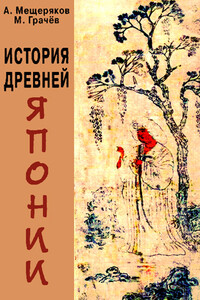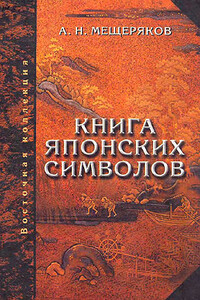Открытие Японии и реформа японского тела (вторая половина XIX — начало XX вв.) | страница 18
1. Неизвестно, приведут ли смешанные браки к “улучшению” японской расы.
2. К такому улучшению могут привести, скорее, изменения в обычаях и среде обитания (одежда, рацион питания, жилье) и повышение уровня гигиены.
3. Даже если с помощью смешанных браков и будет достигнуто улучшение “японской расы”, вряд будет возможно называть ее после этого “японской” — она попросту исчезнет[21].
Дискурс того времени имел целью не столько реформирование японского тела как такового и его превращение в тело европейское, сколько создание тела, которое могло бы справиться с задачами по модернизации страны, но остаться при этом “японским”. И здесь позиция Като Хироюки нашла гораздо больше сторонников.
Предназначением женского тела объявлялось рождение здорового потомства, которое будет способно приблизиться по своим телесным параметрам к европейцам. Утверждалось, что обладатели “слабого” и “больного” тела наносят вред не только себе — они доставляют беспокойство окружающим и — что еще хуже — делают страну бедной и слабой[22]. Таким образом, в лучших традициях конфуцианского подхода к телу оно не считалось “собственностью” самого человека — его предназначением было служение чему-то большему. Но если раньше объектом служения выступали родители, то теперь к ним прибавилась вся страна, символом которой выступал император.
Основанное в 1884 году “Частное гигиеническое общество великой Японии” выдвинуло новый идеал женской красоты, вступавший в противоречие с прежним представлением о сексапильной и нефертильной красавице (гейше и проститутке), для которой характерна анемичность и субтильность. “Общество” пропагандировало “развитые мускулы, большой зад, толстую жировую прослойку”[23], то есть телосложение, приспособленное для физической работы и деторождения.
В японском обществе господствовало убеждение, что мужчины реформируют свое тело сами, им же принадлежит и решающая роль в деле реформирования тела женского. Так, профессор Абэ Исоо (1865–1949) утверждал: японские мужчины должны переменить свои вкусы относительно женской красоты, и тогда на смену нынешней идеальной красавице, для которой характерны истеричность, меланхоличность, бледность, пассивность, маленький рост и телесная слабость, придет типаж “западноподобной” красавицы — женщины крупной, энергичной, румяной[24].
Следует заметить, что в то время пропаганда дородной женщины не увенчалась успехом. Физически сильные крестьянки не становились объектом изображения. То же самое можно сказать и о фабричных работницах (вчерашних крестьянках), статус которых являлся исключительно низким. Многие высокопоставленные деятели периода Мэйдзи были женаты на гейшах, имели наложниц, посещение красавиц из “веселых кварталов” считалось нормой жизни элиты, самого императора окружали наложницы-аристократки, не имевшие ничего общего с новым идеалом красоты.